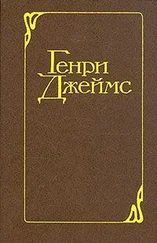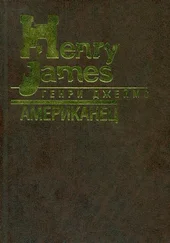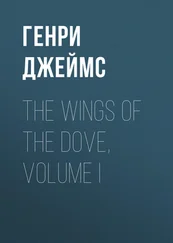Это вовсе не являлось, поспешим мы заявить, – как довольно скоро обнаружил Деншер – и той идеей, с какой сэр Люк наконец снова предстал перед ним. Ибо он действительно перед ним предстал как раз тогда, когда наш молодой друг мрачно признался себе, что праву великого человека уклоняться от лондонских обязательств должен был наступить предел. Четыре-пять дней, не считая дороги, представляли самую большую из допустимых жертв – в расчете на некоронованную голову – со стороны одного из самых крупных медицинских светил современного мира; так что, когда упомянутый персонаж, вслед за треньканьем колокольчика, решительно встал в дверях, это зрелище на секунду подействовало на Деншера словно удар ножа. Он говорил, самый этот факт, говорил одним лишь ужасающим словом, о значительности – Деншер не отваживался назвать это иначе – заболевания Милли. Значит, великий врач не уехал, и его неизмеримо огромная уступка ее неизмеримо огромной необходимости так выразилась в его поступке, что какой-то эффект, какая-то помощь, какая-то надежда тоже нашли в этом, пусть лишь отчасти, свое явное выражение. Для Деншера, из-за его реакции после разочарования, все выглядело так, будто он имеет дело с десятком разных явлений одновременно, и прежде и главнее всего было то, что, раз сэр Люк еще здесь, она спасена! Но тут же, словно мчась по следам надежды и столь же остро, пришло понимание, что кризис – а кризису для него явно предстояло продлиться – даже теперь не обретет разумной простоты. Гость его зашел к нему не только не для того, чтобы посплетничать о Милли, он зашел, вообще не намереваясь о ней упоминать; он зашел, по правде говоря, чтобы показать, что в оставшийся краткий период его пребывания здесь, конец которого уже виден, нет ни малейшей надежды ожидать чего-либо подобного. Его приход был демонстрацией в духе их прежнего знакомства, и именно их прежнее знакомство побудило его прийти. Он не собирался пробыть здесь долее следующей субботы, но было кое-что, его здесь заинтересовавшее, и ему хотелось бы за оставшееся время это посмотреть еще раз. Так что это ради того, что его интересовало в Венеции, ради Венеции и ее возможностей, ради того, чтобы парочку раз «порыскать» по музеям, как он сам это назвал, и обойти город, разыскал он своего молодого знакомца – оказав на последнего, после того как причина его визита спустя сутки совершенно определилась, ни с чем не сообразное, но весьма благотворное отвлекающее воздействие. Ничто на самом деле не могло выглядеть на первый взгляд столь чудовищно – и Деншер прекрасно сознавал это, – как то облегчение, какое он находил в безмолвном отказе от каких бы то ни было упоминаний о дворце, в отсутствии новостей о нем, в отсутствии необходимости о них спрашивать. Вот что произошло для него с появлением этого гостя, в те самые мгновения взволнованного ожидания, что прямо и пугающе связывали его появление с состоянием Милли. Он явился сказать, что спас ее… он явился сказать – как бы от миссис Стрингем, – как ее можно спасти… он явился сказать, вопреки миссис Стрингем, что спасения нет…? Вполне отличимые друг от друга волны надежды и страха, охватившие его, при всем их отличии, одновременно, тут же слились в один болезненный удар сердца, оставивший чувство боли, когда сами волны уже успели отхлынуть. Просто чудеса, и это истинная правда, сотворило с Деншером то, что сэр Люк был – как Деншер сам сказал бы – молчалив и спокоен.
Результатом явилось необычайно странное ощущение снизошедшего на Деншера благословенного затишья после бури. Много недель подряд, как нам известно, он всячески пытался сохранять полнейшую неподвижность, пытался достичь этого по большей части в полном одиночестве и тишине, но теперь, оглядываясь назад, он вспоминал об этом как о лихорадке с невыносимым жаром. Реальной, правильной неподвижностью оказалась эта особая форма общения. Они ходили вместе, беседовали, разыскивали и снова смотрели картины, восстанавливая впечатления, – сэр Люк точно знал, чего он хочет; заглядывали, не очень часто, в старые склады, к перекупщикам, усаживались у Флориана отдохнуть и выпить чего-нибудь некрепкого; благословляли более всего великолепную погоду, океан теплого воздуха, праздник осеннего света. Раз или два, пока они отдыхали, великий человек закрывал глаза и сидел так несколько минут, тогда как его молодой спутник с большей легкостью всматривался в его лицо, делая частные выводы по поводу недосыпания. Он не спал, он был с нею ночью – он сам, лично, много часов, – но это было все, что он выказывал в этой связи, и вполне очевидно, что это останется самой непосредственной ссылкой на состояние дел. Самое необычное крылось в том, что Деншер воспринимал это как явное свидетельство, мог похолодеть от той картины, что в этом проглядывала, и в то же время не мог запретить себе трепетно откликаться на охватившее его чувство освобождения. Освобождение оказалось опытом, обладавшим своей собственной силой, и Деншер постоянно сознавал, почему, вопреки тому, чего он, по справедливости, заслуживал, вопреки его безрассудству, вопреки всему, он так доверчиво надеялся его обрести, терпеливо сидел в своей комнате, его ожидая, ибо предвидел, что – если оно наступит – он обнаружит в нем некое право отпустить его – Деншера – с миром. И вот теперь его отпускали, найдя единственный способ обойтись с ним так, чтобы не увеличивать его ответственность. Красота всего этого заключалась также в том, что освобождение не строилось на какой-либо системе или на основе знания сокровенных деталей; это происходило по воле человека светского, знавшего людей, знавшего жизнь, понимавшего действительность: вот почему сэр Люк так благотворно на него воздействовал. Во всей этой истории участвовало слишком много женщин. Восприятие ситуации мужчиной – другим мужчиной – все меняло, и Деншер даже задавал себе вопрос, какой мужчина (будь у него выбор!) был бы ему более по вкусу, чем этот. Сэр Люк был мужчина крупный и спокойный – а это просто Божье благословение; он знал, что имело значение, а что – нет; он прекрасно различал, где суть, а где внешняя оболочка, где есть реальная почва для беспокойства, а где ее не существует. И если вы каким-то образом (то есть если это как-то вас касалось или вы оказывались в его поле зрения) попадали к нему в руки ради того или иного его действия, вы в не меньшей степени могли полагаться на его милосердие, чем ожидать от него строгости. Великолепнейшей чертой было то, а ведь доходило и до этого, как он не моргнув глазом – вполне можно это так определить – умел счесть самые странные вещи естественными. Ничто на свете, если бы они не отнеслись к этому именно так, не могло бы превзойти необъяснимую странность возникшей при их общении полной отстраненности Деншера от двух несчастных дам во дворце; ничто не могло превзойти по странности столь же заметную воздержанность великого человека от разговоров о них. Он по-прежнему, как и тогда, при встрече на вокзале, не говорил ничего ни о чем, и в результате, как сказал бы Деншер, их отношения походили на отношения врача и пациента. Вы принимали тон, предложенный великим человеком, как принимают лекарство, предписанное врачом, с той лишь разницей, что предложенный тон принимать было приятно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу