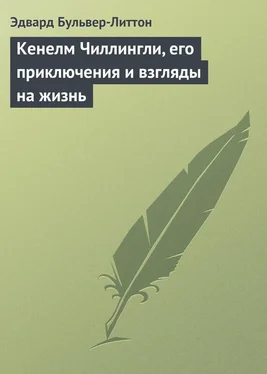– По совести говоря, я не все это вижу в картине, но мне кажется, что она написана легко, и, конечно, котенок – это Бланш, похож как две капли воды.
– Да, очень. Лев набросал первый эскиз с натуры карандашом и, когда заметил, что я осталась довольна – он был так добр, – что начал писать на полотне и позволил мне сидеть возле и следить за его работой. Потом он унес картину и принес в прошлом году в мае, в подарок ко дню моего рождения, уже оконченную и окантованную, какой вы ее видите сейчас.
– Вы родились в мае – вместе с цветами! – Самые лучшие цветы, фиалки, расцветают до мая.
– Но они любят тень. А вы, дитя мая, наверно, любите солнце!
– Я люблю солнце, оно никогда не слепит меня и не бывает слишком жарким. Но и не думаю, чтобы, родившись в мае, я родилась среди солнечного света. Я лучше чувствую свое я, когда забираюсь одна в тень. Тогда я могу плакать.
Когда она окончила таким застенчивым признанием свою речь, лицо ее изменилось – детская веселость исчезла, серьезное, задумчивое, даже грустное выражение появилось в нежных глазах и на трепещущих губах.
Кенелм был так растроган, что не находил слов. Ненадолго воцарилось молчание. Потом Кенелм продолжил разговор:
– Вы говорите: ваше подлинное я. Значит вы, как это часто бывает со мной, чувствуете, что есть второе, вероятно подлинное я, глубоко скрытое под тем, которое мы показываем свету – это может быть лишь простой маской, – но тем, которое мы обычно признаем своим, даже когда находимся наедине с собой; внутреннее, самое заветное я, которое так отлично от другого и так редко выходит из своего убежища, но если выходит, то заявляет свои права на владычество и затмевает другое я, как солнце звезду!
Если бы Кенелм говорил таким образом с каким-нибудь умным светским человеком, например, с Майверсом или с Гордоном, они, безусловно, не поняли бы его. Но с такими людьми он никогда и не стал бы говорить в подобном тоне. Тем не менее он смутно надеялся, что эта девушка-ребенок поймет его; и она действительно сразу поняла.
Подойдя к Кенелму и опять положив на его руку свою, она заглянула в его склоненное лицо изумленными глазами, уже не такими грустными, но еще и не веселыми, и сказала:
– Как это верно! И вы тоже это чувствовали? Где ж оно таится, наше внутреннее я, так глубоко-глубоко скрытое? Ведь когда оно выходит, оно выше, неизмеримо выше нашего повседневного я. Оно не приручает бабочек – оно жаждет лететь к звездам. А потом, потом – ах, как оно скоро гаснет! Вы это чувствовали? Разве это не удивительно?
– Да, это так!
– И нет таких умных книг, где можно было бы найти этому объяснение?
– Ни одна умная книга из тех немногих, которые я читал, даже не пытается разгадать эту загадку. Мне кажется, что это один из тех неразрешимых вопросов, которые остаются между младенцем и творцом. Ум и душа не одно и то же, и те, кого мы с вами называем умными людьми, часто смешивают одно и другое.
В эту минуту, к счастью для всех – особенно для читателя, потому что Кенелм уже сел на своего конька: различие между психологией и метафизикой, душой и умом, с научной и логической точек зрения, – в комнату вошла миссис Кэмерон и спросила его, как ему понравилась картина.
– Очень. Я не знаток в искусстве, но она понравилась мне с первого взгляда, а теперь, когда мисс Мордонт объяснила мне замысел художника, я восхищаюсь ею еще больше.
– Лили объясняет картину по-своему и уверяет, будто выражение физиономии Бланш показывает ее способность сдерживать хищнические инстинкты и понимать, что дурно убивать птичек просто для забавы. Для пищи Бланш незачем убивать их, потому что Лили заботится, чтобы она была сыта. Но я думаю, что мистер Мелвилл и в мыслях не имел передать в своей картине все добродетели Бланш.
– Он должен был это сделать, имел он это в мыслях или нет, – решительно заявила Лили, – иначе картина не была бы правдива.
– Почему же? – спросил Кенелм.
– Разве вы не видите? Если бы вас попросили правдиво описать характер ребенка, разве вы говорили бы только о дурных наклонностях, свойственных всем детям, и даже не намекнули на возможность перемены характера?
– Прекрасно сказано! – обрадовался Кенелм. – Нет никакого сомнения, что животное гораздо свирепее кошки – тигра, например, или победоносного героя можно научить жить в самых добрых отношениях с теми существами, уничтожать которых побуждают его природные инстинкты.
– Да, да, слышишь, тетя? Ты помнишь «счастливое семейство», что мы видели восемь лет назад на молсвичской ярмарке. Там была кошка, совсем не такая кроткая, как Бланш, а она позволяла мыши кусать ее за ухо! Лев поступил бы вероломно с Бланш, если б не… – Лили замолкла, застенчиво и лукаво взглянула на Кенелма, потом прибавила тихо: – …если б не приоткрыл ее внутреннее я.
Читать дальше