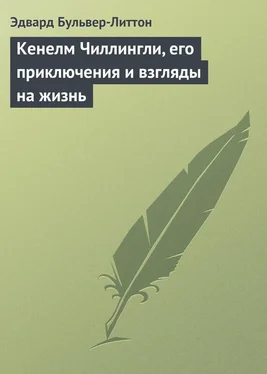– И справляться не буду. Разве чувство долга ничего не значит?
– Увы, мы так по-разному толкуем долг! От долга в обычном смысле слова я, надо полагать, отступлю не более других. Но разве для полного развития всего хорошего, что в нас заложено, нам следует усвоить образ действий, против которого мы восстаем всеми силами души? Можете вы сказать бухгалтеру: «Будь поэтом», или поэту: «Будь бухгалтером»? Не обретет счастья человек, если ему прикажут избрать одну карьеру, когда сердце его лежит к другой, как не будет он счастлив, если его принудят жениться на одной женщине, когда все его чувства стремятся к другой.
Сесилия смутилась и отвела глаза. Кенелм обладал большим тактом, чем это обычно бывает у молодых людей его лет, то есть тонко понимал, чего в разговоре следует избегать, но у него была несчастная привычка забывать, с кем он говорит, и рассуждать как бы с самим собой. Предав полному забвению Джорджа Бельвуара и не заметив, как подействовал на собеседницу его неуместный довод, он продолжал:
– «Счастье» – слово, произносимое с большой легкостью. Оно может означать мало, оно может означать много. Под «счастьем» я подразумевал бы не минутную радость ребенка, которому дали игрушку, но постоянную гармонию между нашими склонностями и целями. Без этого созвучия мы в раздоре с самими собой, мы неполноценные люди, мы неудачники. А сколько советчиков наставляют нас: «Быть в раздоре с собой – наш долг». Я это отвергаю.
Тут Сесилия встала и тихо произнесла:
– Становится поздно. Пора возвращаться.
Они медленно спустились с зеленого пригорка и сначала шли молча. Летучие мыши, появляясь из поросших плющом развалин, шныряли и мелькали перед ними, гоняясь за ночными насекомыми. Спасаясь от преследователей, ночная бабочка села на грудь к Сесилии.
– Летучие мыши – практичные создания, – сказал Кенелм, – их движущая сила – голод. Их интерес сосредоточен на насекомых, которых они ловят. Звезды их не привлекают, однако звезды служат приманкой для бабочек.
Сесилия прикрыла прозрачным шарфом ночную бабочку, чтобы та не улетела и не стала добычей летучих мышей.
– Однако и бабочка практична, – возразила она.
– Да, на этот раз она была практична, когда на пути к звездам нашла убежище от грозившей ей опасности.
У Сесилии забилось сердце. Не было ли более глубокого и нежного смысла в этих словах? Но если она это подумала, то ошиблась. Они подходили теперь к садовой калитке, и Кенелм остановился, чтобы открыть ее.
– Посмотрите, – сказал он, – месяц только что взошел над теми темными соснами и придал ночи еще большую тишину. Не странно ли, что мы, смертные, находясь в постоянном волнении, суете и борьбе, как в естественной нам стихии, мыслим о святости в образах, противоположных нашей действительной жизни, то есть в образах спокойствия? В эту минуту, когда на небе и на земле царит такая мирная тишина, у меня возникло чувство, будто я стал чище, нравственнее, стал подвластен белее высокой морали, чем внушенная мне насекомым, которому вы дали убежище. Чтобы выразить это, я должен обратиться к поэтам:
Стремленье к звезде мотылька, [134]
И мрака – к сиянью.
А человека – уйти далеко
От земного страданья.
О несбыточная, несбыточная мечта, недостижимая на нашей земле!
В этих словах слышалась такая безысходная тоска, что Сесилия не устояла против порыва сострадания. Она положила на его руку свою и заглянула в поднятое к звездам печальное лицо глазами, которым небо предназначило быть источниками утешения для страждущего мужчины. От легкого прикосновения ее руки Кенелм вздрогнул, опустил глаза и встретил этот сострадательный взор.
– К великой своей радости, могу сообщить вам, что спас быка! – крикнул им Трэверс, подходя к калинке.
Когда в этот вечер Кенелм поднимался в свою комнату, он остановился на площадке перед портретом, который хозяин дома осудил на печальное изгнание. Эта дочь вымершего и опозоренного рода могла быть гордостью дома, в который вошла невестой. Лицо, поразительно прекрасное, было по своим чертам в высшей степени патрицианским. В нем сочеталось выражение кротости и скромности, не часто встречающееся в портретах сэра Питера Лели, а в глазах и улыбке удивительное отражение невинного счастья.
«Какое наглядное предостережение против честолюбия, которое прелестная представительница более позднего поколения могла бы пробудить во мне, являешь ты собою, о пленительный образ! – рассуждал про себя Кенелм, обращаясь к портрету. – Сколько десятилетий это полотно хранило твою красоту на радость и гордость всему роду. Владелец за владельцем говорил восхищенным гостям: „Да, прекрасный портрет, кисти Лели. Она была моей прабабушкой Флитвуд из Флитвуда“. Теперь же, чтобы гости не вспомнили, что один из Трэверсов некогда сочетался браком с девушкой из рода Флитвудов, тебя скрыли от глаз людских; даже кисть Лели не может придать тебе цену, спасти невинную от осуждения. Последний из Флитвудов, без сомнения самый честолюбивый из них, наиболее стремившийся восстановить и вновь позолотить древнее знатное имя, умер мошенником; позор одного живого человека так ужасен, что может обесславить умерших».
Читать дальше