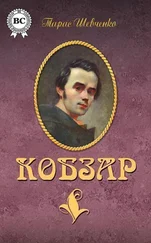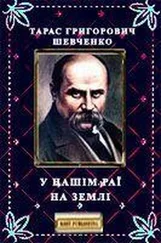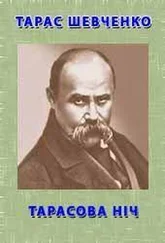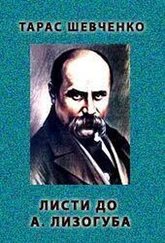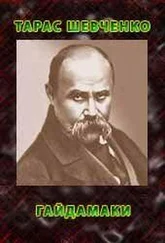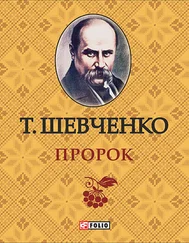Три дня я терпеливо таскал на гору ведрами воду из речки Тикича и растирал на железном листе краску медянку. На четвертый день терпенье мне изменило и я бежал в село Тарасовку к дьячку-маляру, славившемуся в околотке изображением великомученика Никиты и Ивана Воина. К сему-то Апеллесу обратился я с твердою решимостью – перенести все испытания, как думал я тогда, неразлучные со всякою наукою. Усвоить себе его великое искусство хоть в самой малой степени желал я страстно. Но увы! Апеллес посмотрел внимательно на мою левую руку и отказал мне наотрез. Он объявил мне, к моему крайнему огорчению, что во мне нет способности ни к чему, ни даже к
шéвству или
бóндарству .
Потеряв всякую надежду сделаться когда-нибудь хоть посредственным маляром, с сокрушенным сердцем возвратился я в родное село. У меня была в виду скромная участь, которой мое воображение придавало, однако ж, какую-то простодушную прелесть: я хотел сделаться, как выражается Гомер, «пастырем стад непорочным», с тем, чтобы, ходя за громадскою ватагою, читать свою любезную краденую книжку с кунштиками. Но и это не удалось мне. Помещику, только что наследовавшему достояние отца своего, понадобился расторопный мальчик, и оборванный школяр-бродяга попал прямо в тиковую куртку, в такие же шаровары и наконец – в комнатные казачки.
Изобретение комнатных казачков принадлежит цивилизаторам заднепровской Украины, полякам; помещики иных национальностей перенимали и перенимают у них казачков как выдумку, неоспоримо умную. В краю некогда казацком сделать казака ручным с самого детства – это то же самое, что в Лапландии покорить произволу человека быстроногого оленя… Польские помещики былого времени содержали казачков, кроме лакейства, еще в качестве музыкантов и танцоров. Казачки играли для панской потехи веселые двусмысленные песенки, сочиненные народною музою с горя под пьяную руку, и пускались перед панами, как говорят поляки, с ΄ юды-тýды навпри с ΄ юды . Новейшие представители вельможной шляхты с чувством просвещенной гордости называют это покровительством украинской народности, которым-де всегда отличались их предки. Мой помещик, в качестве русского немца, смотрел на казачка более практическим взглядом и, покровительствуя моей народности на свой манер, вменил мне в обязанность только молчание и неподвижность в уголку передней, пока не раздастся его голос, повелевающий подать стоящую тут же возле него трубку или налить у него перед носом стакан воды. По врожденной мне продерзости характера, я нарушал барский наказ, напевая чуть слышным голосом гайдамацкие унылые песни и срисовывая украдкою картины суздальской школы, украшавшие панские покои. Рисовал я карандашом, который – признаюсь в этом без всякой совести – украл у конторщика.
Барин мой был человек деятельный: он беспрестанно ездил то в Киев, то в Вильно, то в Петербург и таскал за собой, в обозе, меня для сиденья в передней, подаванья трубки и тому подобных надобностей. Нельзя сказать, чтоб я тяготился своим тогдашним положением: оно только теперь приводит меня в ужас и кажется мне каким-то диким и несвязным сном. Вероятно, многие из русского народа посмотрят когда-то по-моему на свое прошедшее. Странствуя с своим барином с одного постоялого двора на другой, я пользовался всяким удобным случаем украсть со стены лубочную картинку и составил себе таким образом драгоценную коллекцию. Особенными моими любимцами были исторические герои, как-то Соловей-разбойник, Кульнев, Кутузов, казак Платов и другие. Впрочем, не жажда стяжания управляла мною, но непреодолимое желание срисовать с них как только возможно верные копии.
Однажды, во время пребывания нашего в Вильно, в 1829 году, декабря 6, пан и пани уехали на бал в так называемые ресурсы (дворянское собрание), по случаю тезоименитства в Бозе почившего императора Николая Павловича. В доме все успокоилось, уснуло. Я зажег свечку в уединенной комнате, развернул свои краденные сокровища и, выбрав из них казака Платова, принялся с благоговением копировать. Время летело для меня незаметно. Уже я добрался до маленьких казачков, гарцующих около дюжих копыт генеральского коня, как позади меня отворилась дверь и вошел мой помещик, возвратившийся с бала. Он с остервенением выдрал меня за уши и надавал пощечин – не за мое искусство, нет! (на искусство он не обратил внимания), а за то, что я мог бы сжечь не только дом, но и город. На другой день он велел кучеру Сидорке выпороть меня хорошенько, что и было исполнено с достодолжным усердием.
Читать дальше
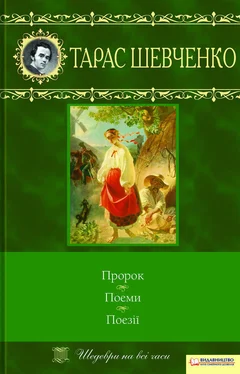
![Тарас Шевченко - Перлини української класики [збірник]](/books/30153/taras-shevchenko-perlini-ukraЇnskoЇ-klasiki-zbІrni-thumb.webp)