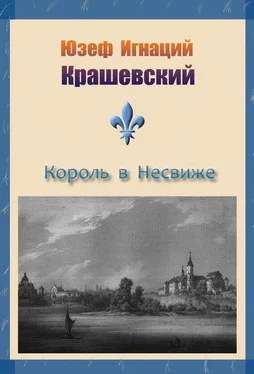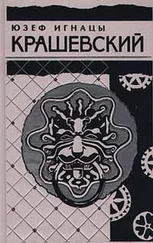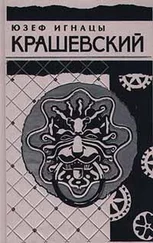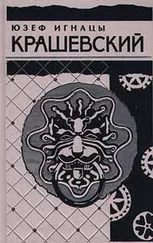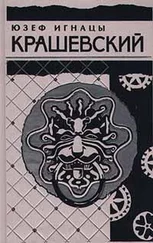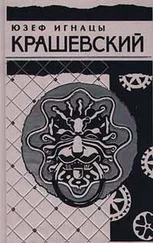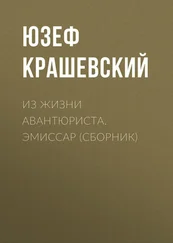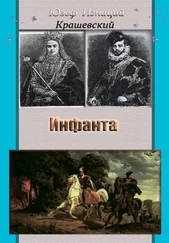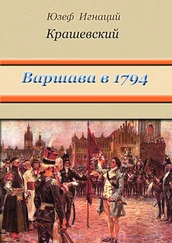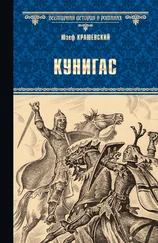– Знаешь о Юлиане?
– А! Знаю…
– Следовательно, ты всё знаешь; но у меня большая, большая просьба к тебе, – и девушка подала ему ручку, уставляя на него свои голубые умоляющие глаза.
– Казы, мой дорогой, если ты меня любишь, сделай то, о чём я буду тебя просить, поклянись же!!
– Можешь ли просить меня или нуждаешься в клятве? Сделаю, что только смогу, хоть бы жизнь отдать пришлось!
– А если бы пришлось отдать? – спросила Розия, пристально глядя на него и медленно бросая по одному слову.
– Чтобы тебя спасти?
– Да…
После минутного молчания Розия подошла и шепнула ему на ухо:
– Дай мне сильного, сильного, ужасного яда, обязательно мне понадобится… Казы! Не откажи!
Казы остолбенел.
– Яда? – вопросил он через мгновение, всматриваясь в неё. – Тебе? На что?
– На что? Я тебе поведать не могу, но клянусь тебе, заверяю, заклинаю нашей любовью, что он нужен для моего спасения!
– Для твоего спасения? Что же тебе угрожает?
– Но я тебе ничего сказать не могу! Ты знаешь меня? Веришь ли мне?
– Я знаю тебя и верю тебе, мой дорогой ангел, но и ты должна меня знать, должна бы мне верить! На что эти секреты между нами?
Девушка сильно забеспокоилась, но смущённый Казьмеж так настаивал, что, в конце концов она должна была всё рассказать.
– Отец проводит меня с собой к какому-то генералу, ты знаешь этих мучитетелей, что у них может просьба такой бедной, как я, девочки? Отец прав, что для спасения Юлка хочет мной пожертвовать, освобожу его, но этого негодяя, которого подкупит моя улыбка, отравить должна, чтобы рука его моей ладони коснуться не смела.
Казьмеж, видя запал, с каким она это говорила, побледнел, но упал перед ней на колени, так она охватила его своим героизмом. Пользуясь этим волнением, Розия резко потребовала яда. Как же его было доверить в руки пятнадцатилетнего ребёнка, обезумевшего от боли почти до отчаяния! Она могла его использовать в минуту какого-то беспричинного опасения против себя самой, во всяком случае она могла выдать себя неловкостью и сгубить. Казьмеж сам не ведал, что делать, но смягчался во время, когда она настаивала, её чувствам дал себя охватить.
– Поклянись же, – сказал он, – что ни в коем случае не используешь яда для себя! Я буду на страже. Ежели дойдёт до крайности и Юлиан будет уже свободен, я бросаю аптеку, забираю тебя, у меня есть ксендз, который нас повенчает, и мы убежим в Августовское… к моей семье.
Долго ещё шептались друг с другом и никто их как-то разговора не прервал.
Наконец, хоть с великим страхом, Казьмеж добыл стрихнины, закрыл малое её количество в бутылочку, которая с лёгкостью под перчаткой на ладони могла скрыться; и Розия с великой радостью побежала к дому с тем страшным оружием.
* * *
В то время, к которому относится наш роман, поведение русских не было ещё так отчаянно бесстыдно, как сегодня. Они кое-как заботились о мнении Европы, которая ещё безоговорочно их не осудила, делали вид людей цивилизованных, хотя неловко. Та искусственная агитация, которая под видом патриотизма сделала в России запрет всех добрых и благородных чувств, сделала преследование системой, жестокость – правом, неуважение всего – правилом этой беспрецедентной войны, эта агитация, которую сделали журналистика и усердие бюрократов, ещё в это время не существовала. Россия, льстя себе, что разрешит этот спор, важности которого не понимала, обходилась с нами потихоньку со своей обычной жестокостью, внешне с сохранением некоторых правовых норм. Делали вид, например, хоть неловко, что собирались отдать под суд того генерала, который первый выстрелил в безоружного человека, отрицали разбитие креста и уничтожение духовных, но потихоньку на советах в замке жалели, что мало людей пало, и что в первую минуту не использовали более сильных средств. Это общее поведение выдавалось и в выборе людей, брали таких, которые умели прятать когти, надевая на них глянцевые перчатки. Князь Шкурин, адьютант губернатора, прекрасно образованный человек, известный своими либеральными принципами, говорил почти громко в гостиных о николаевском деспотизме, даже признавал за Польшей некоторые права, но хотел только, чтобы она сдалась на великодушие царя.
Был это человек лет около сорока, хорошо изношенный петербургским развратом и климатом, элегантный, всегда надушенный так, что его подозревали, что он тайно смердил, поклонник многих женщин и любитель шампанского, которое был готов начать пить перед супом. Был это один из тех людей, как большая часть тогдашней мебели, обложенной фанерой и выглаженной по верху, в середине гниющей и из любого какого дерева. Образование, которое он получил, развило в нём только внешнего человека, центр остался нетронутым.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу