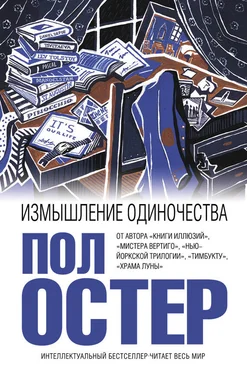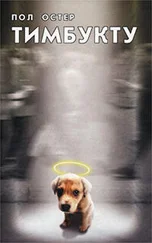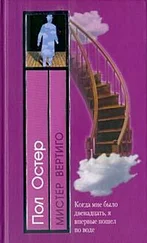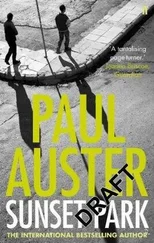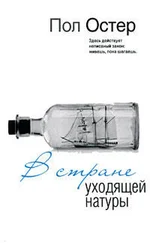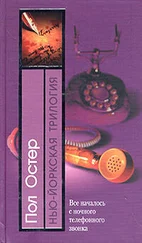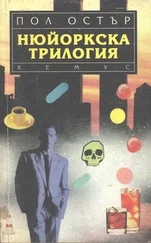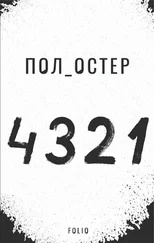* * *
Послабление причины и следствия.
О. вспоминает мгновение детства (двенадцать, тринадцать лет). Как-то ноябрьским днем он бесцельно слонялся со своим другом Д. Ничего не происходило. Но в каждом из них в тот миг – ощущение безграничных возможностей. Ничего не происходило. Либо же можно сказать, что происходило фактически это сознание возможности.
Они шли в холодном сером воздухе того дня, и О. вдруг остановился и объявил своему другу: «Ровно через год с нами произойдет нечто необычайное, такое, что навсегда изменит наши жизни».
Год прошел, и в назначенный день ничего необычайного не произошло. О. объяснил Д.: «Не имеет значения; важное произойдет на следующий год». Когда миновал и второй год, произошло то же самое: ничего. Но О. и Д. это не смутило. Все годы средней школы они продолжали праздновать этот день. Не церемонией, простым признанием. Например, видели друг друга в школьном коридоре и говорили: «Это в субботу». Не то чтоб они по-прежнему ждали какого-то чуда. Самое любопытное в том, что за годы они оба привязались к памяти о своем предсказании.
Безрассудное будущее, таинство того, что покуда не произошло: и это тоже, понял он, можно сохранить в памяти. И его иногда поражает, что слепое подростковое пророчество, сделанное им двадцать лет назад, это предвидение необычайного, в действительности необычайным было само: его ум радостно перескакивал в неведомое. Факт остается фактом: прошло много лет. И до сих пор в конце каждого ноября он ловит себя на том, что вспоминает тот день.
* * *
Пророчество. Как истинное пророчество. Как у Кассандры, говорившей из одиночества своего узилища. Женским голосом.
Будущее слетает с ее уст в настоящем, всё – в точности так, как оно произойдет, и судьба ее в том, что ей никогда не верят. Безумица, дочь Приама:
…дева тут не тихая,
Как прежде, пролила из уст пророчества, –
Нет, вопль издав огромный и всесмешанный,
Вкусивши лавр, слова вещала Фебовы:
Казалось, это голос Сфинкса мрачного [87].
Говорить о будущем – пользоваться языком, что вечно себя опережает, обрекает еще не происшедшее прошлому, тому «уже», что вечно запаздывает, и в этом зазоре между высказыванием и действием, слово за словом, начинает открываться бездна, и созерцать сколь-нибудь долго эдакую пустоту – голова закружится, почувствуешь, что сам падаешь в эту пропасть.
О. помнит свой восторг в Париже в 1974-м, когда он обнаружил эту поэму Ликофрона в полторы тысячи строк (написанную ок. 300 г. до н. э.) – монолог Кассандры, неистовствующей в тюрьме перед падением Трои. На поэму он наткнулся благодаря ее французскому переводу, сделанному К., писателем и его сверстником (двадцать четыре года). Три года спустя, когда они встретились с К. в кафе на рю Кондэ, он спросил, не известны ли ему какие-то переводы поэмы на английский. Сам К. по-английски не читал и не говорил, но о таком переводе слышал – некого лорда Ройстона, начала XIX века. Вернувшись в Нью-Йорк летом 1974-го, он отправился в библиотеку университета Коламбиа искать эту книгу. К своему удивлению, он ее нашел. «Кассандра, переведено с греческого оригинала Ликофрона и иллюстрировано, с примечаниями», Кембридж, 1806.
Перевод этот – единственная сколько-нибудь значимая работа, вышедшая из-под пера лорда Ройстона. Он завершил перевод, еще учась в Кембридже, и опубликовал поэму сам, роскошным частным изданием. Затем, по выпуске, отправился в традиционный вояж по континенту. Из-за наполеоновских волнений во Франции двинулся он не на юг – таков был бы обычный маршрут для юноши с его интересами, – а на север, в скандинавские страны, и в 1808 году, пересекая предательские воды Балтийского моря, утонул в кораблекрушении у берегов России. Ему было всего двадцать четыре года.
Ликофрон: «темный». В его плотной, ошеломляющей поэме ничего никогда не называется впрямую, все в ней – отсылка к чему-то другому. Читатель быстро теряется в лабиринте его ассоциаций, однако гонит дальше, подстегиваемый силой голоса Кассандры. Поэма – словесный поток, пышущий огнем и огнем же пожранный, она испепеляет себя на краю смысла. «Слово Кассандры, – как выразился друг О. (Б. – в лекции, что примечательно, о поэзии Хёльдерлина – поэзии, которую по манере он сравнивает с речью Кассандры), – этот несокращаемый знак – deutungslos [88] – слово за пределами уловленья, слово Кассандры, слово, из коего нельзя извлечь никакого урока, слово всякий раз, и всякий раз – произносимое, чтобы не сообщить ничего…» [89]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу