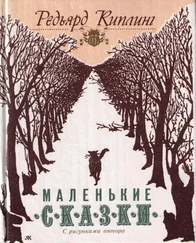Я только успел вымолвить «Покровительство сиркара!», как вдруг новая толпа, бегущая впереди туземной пехоты, унесла нас на сто ярдов ближе к Кумхарсайнским воротам, и Питит исчез, как тень.
– Не знаю… не могу понять… Все это ново для меня, – простонал мой спутник. – Сколько войск стоит в городе?
– Сотен пять, кажется, – ответил я.
– Лакх людей побежден пятью сотнями… И среди них сикхи! Истинно, истинно, я старик, но… Кумхарсайнские ворота как будто новые. Кто стащил с них каменных львов? А где же водопровод? Сахиб, я очень стар, и, увы, я… я не в силах стоять. – Он упал под Кумхарсайнскими воротами, где было тихо.
Из мрака выступил толстый джентльмен в золотом пенсне.
– В высшей степени любезно с вашей стороны привести моего старого друга, – сказал он сладко. – Он землевладелец из Акалы. Ему не следует оставаться в большом городе, охваченном религиозным возбуждением. У меня здесь имеется экипаж. Вы действительно очень любезны. Не поможете ли вы мне посадить его в экипаж? Уже очень поздно.
Мы втащили старика в наемную коляску, которая стояла у самых ворот, и я повернул назад к дому на городской стене. Войска гоняли народ взад и вперед, а полиция гремела: «По домам! Расходитесь по домам!», и хлыст помощника окружного инспектора беспощадно щелкал. Пораженные ужасом баньи цеплялись за стремена кавалеристов, крича, что дома их разграблены (это была ложь), и дородные всадники-сикхи хлопали их по плечу и убеждали вернуться в эти дома, предупреждая, что в противном случае им придется еще хуже. Кучки британских солдат, по пять-шесть человек, с ружьями за спиной, мчались, взявшись за руки, по переулкам и с криками и песнями наступали на ноги индуистам и мусульманам. Никогда еще религиозный энтузиазм не подавляли так систематически, и никогда несчастные нарушители тишины и спокойствия не казались такими истомленными и измученными. Их выгоняли из ям, из-за углов, из-за колодезных столбов, из хлевов и заставляли расходиться по домам. Если же, за неимением постоянного местожительства, им некуда было пойти, тем хуже доставалось их ногам.
Вернувшись к дверям Лалан, я наткнулся на человека, лежавшего на пороге. Он истерически всхлипывал, и руки его трепетали, как крылья гуся. Это был Вали-Дад, агностик и атеист, босой, без чалмы, с пеной у рта; грудь его была разодрана, и из нее сочилась кровь – так яростно он бил себя в грудь. Рядом с ним лежала сломанная ручка факела, и, когда я наклонился к юноше, дрожащие губы его пролепетали:
– Йа, Хасан! Йа, Хусайн!
Я протащил его несколько ступеней вверх по лестнице, бросил камешек в выходившее на улицу окно Лалан и поспешил домой.
Почти на всех улицах настала глубокая тишина, и холодный предрассветный ветер свистел между домами. В центре площади Мечети какой-то человек склонился над трупом. Череп покойника был разбит ружейным прикладом или бамбуковой дубинкой.
– Одному человеку надлежит умереть за народ, – мрачно произнес Питит, приподнимая бесформенную голову. – Эти негодяи начали слишком явно показывать свои зубы.
А издали доносилось пение солдат. Они распевали песню «Пара чудных черных глаз», загоняя остатки бунтовщиков в дома.
Вы, конечно, догадались о том, что произошло? Я был не так догадлив. Когда распространилась весть о бегстве Кхем-Сингха из Форта, я, который в то время не писал этого рассказа, а переживал его, не заметил связи между исчезновением старика и собой, или Лалан, или толстым джентльменом в золотом пенсне. Мне также не пришло в голову, что Вали-Дад был тем человеком, которому поручили провести старика через город, и что руки Лалан, обвивавшие мою шею, обвились только для того, чтобы скрыть от меня, как Насибан давала ему деньги, и что Лалан использовала меня и мое белое лицо в качестве лучшей охраны, чем Вали-Дад, который оказался столь недостойным доверия. В то время я узнал лишь следующее: когда Форт Амара был занят подавлением бунта, Кхем-Сингх воспользовался суматохой и убежал, а два его сикхских стража удрали тоже.
Но впоследствии все мне стало ясно; и Кхем-Сингху также. Он бежал к тем, кто знал его в старину, но многие из них умерли, а большинство изменилось и знало кое-что о гневе правительства. Он обратился к молодежи, но слава его имени померкла, и молодежь стала поступать в туземные полки или государственные учреждения, а Кхем-Сингх не мог дать им ни пенсии, ни орденов, ни влияния – ничего, кроме славной смерти спиной к пушечному жерлу. Он писал письма, давал обещания, но письма попадали в скверные руки, и один совершенно незначительный низший полицейский чиновник перехватывал их и за это получил повышение. Кроме того, Кхем-Сингх был стар, а анисовой настойки не хватало; а серебряные кастрюли он оставил в Форте Амаре, вместе с хорошей теплой постелью; а джентльмену в золотом пенсне наниматели его сообщили, что Кхем-Сингх не может стать популярным вождем и не стоит потраченных на него денег.
Читать дальше