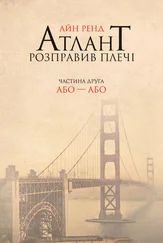Дагни взглянула на остальных.
– Пожалуйста, откройте мне свои причины, – попросила она с ноткой упрямства, словно получала трепку, но хотела вытерпеть ее до конца.
– Я ушел несколько лет назад, когда медицина была взята под контроль государства, – заговорил доктор Хендрикс. – Знаете, что такое операция на мозге? Знаете, какой она требует подготовки? Скольких лет страстной, суровой, мучительной работы, чтобы приобрести подобную квалификацию? Вот чего я не хотел отдавать людям, единственной силой которых для контроля надо мной являлась демагогия, открывшая им на выборах путь к привилегии диктовать другим свою волю. Я не хотел позволять им устанавливать мне цель, условия работы, выбор пациентов и размеры моего вознаграждения. Я обратил внимание, что во всех дискуссиях, предшествовавших порабощению медицины, люди обсуждали все, кроме желаний самих врачей. Принималось во внимание лишь «благополучие» пациентов, без мысли о тех, кто должен его обеспечивать. То, что у врачей должны быть какие-то права, желания или выбор, считалось «неуместным эгоизмом»; говорили, что врач не может выбирать, он обязан «служить». То, что человек, согласный работать по принуждению, опасней дикаря, и ему нельзя доверить работу даже на скотном дворе, просто не приходило в голову тем, кто предлагал помогать больным, делая невозможной жизнь здоровых. Я искренне поражался самоуверенности, с которой люди утверждали свое право порабощать меня, контролировать мою работу, насиловать мою волю, мою совесть, подавлять мой разум… однако на что после этого они могли рассчитывать, ложась на операционный стол под мой скальпель? Их моральный кодекс учил, что можно полностью полагаться на добродетельность их жертв. Так вот, то, что я ушел, и есть добродетель. Пусть увидят, каких врачей будет теперь создавать их система. Пусть поймут, что в операционных, в больничных палатах крайне небезопасно вверять свою жизнь человеку, которого они подавляли. Небезопасно, если он этим возмущен… и еще небезопаснее, если нет.
– Я ушел, – сказал Эллис Уайэтт, – потому что не хотел быть для каннибалов пищей и одновременно поваром.
– Я понял, – сказал Кен Данаггер, – что люди, с которыми я сражался, бессильны. Они беспомощны, бесполезны, безответственны, неразумны. Я в них не нуждался, не им было диктовать мне условия, не мне было подчиняться их требованиям. Я ушел, чтобы и они это поняли.
– Я ушел, – сказал Квентин Дэниелс, – потому что, если существуют разные степени проклятья, ученый, отдающий разум на службу грубой силе, заслуживает самого страшного, поскольку становится самым опасным убийцей.
Дагни повернулась к Голту.
– А вы? – спросила она. – Вы были первым. Что подвигло к уходу вас?
Он усмехнулся.
– Отказ признавать за собой какой-то первородный грех.
– То есть?
– Я никогда не испытывал чувства вины за свои способности. За свой разум. За то, что я человек. Я не принимал никаких незаслуженных обвинений, поэтому был волен зарабатывать и сознавать свою ценность. Сколько помню себя, я чувствовал, что готов убить любого, кто скажет, что я живу для удовлетворения его потребностей, и полагал это самой высокой моралью. В тот вечер собрания на заводе « Двадцатый век », когда я услышал, как о вопиющем зле говорится тоном праведности, я увидел корень мировой трагедии, ключ к ней и решение ее проблемы. Понял, что нужно сделать. И ушел делать это.
– А двигатель? – спросила Дагни. – Почему бросили его? Почему оставили наследникам Старнса?
– Двигатель был собственностью их отца. Он заплатил мне за него. Я сделал мотор при его жизни. Но я знал, что им он не принесет никакой пользы, и никто о нем никогда не узнает. То была первая экспериментальная модель. Никто, кроме меня или человека моих способностей, не мог доделать его или хотя бы понять, что он собой представляет. А я знал, что ни один человек моих способностей и близко не подойдет к этому заводу.
– Вы понимали, какое достижение представлял собой ваш мотор?
– Да, – Голт посмотрел в темноту за окном и горько усмехнулся. – Перед уходом я взглянул на него еще раз. Подумал о тех, кто говорит, что богатство – вопрос природных ресурсов, о тех, кто говорит, что оно – вопрос конфискации заводов, о тех, кто говорит, что разум обусловлен машинами. Ну что ж, там был мой мотор, чтобы обусловливать их разум. Я оставил его именно в том виде, что он представлял собой без человеческого разума, – груда брошенных ржаветь железок и проводов. Вы думали о той великой службе, которую этот двигатель мог бы сослужить человечеству, будь он запущен в производство? Полагаю, в тот день, когда люди уразумеют, как мой мотор оказался в груде заводского металлолома, его час, возможно, и пробьет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу