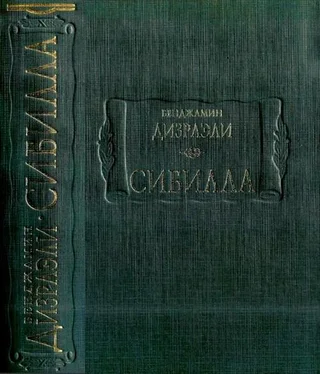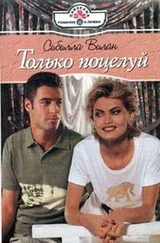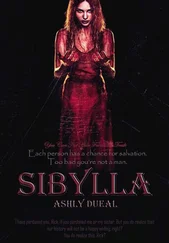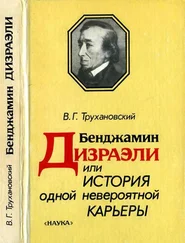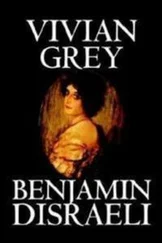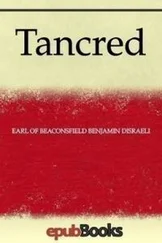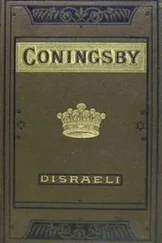Сибилла едва заметно вздрогнула, мельком взглянула на него, но промолчала.
— Я буду счастлив, если вы также поверите, что этот шаг, по крайней мере, был обусловлен причинами, которых мне не следует стыдиться, даже если, — дрожащим голосом прибавил он, — даже если вы сочли мое поведение бесчестным.
Их взгляды встретились: на лице Сибиллы запечатлелось недоумение, но она не произнесла ни слова; ее отец, который стоял к ним спиной, оставался недвижим.
— Мне говорили, — продолжал Эгремонт, — что непреодолимая пропасть отделяет Богатых от Бедных; мне говорили, что Избранные и Народ образуют Две Нации, которые подчиняются разным законам и находятся под влиянием разных обычаев; у них нет общих мыслей или предпочтений — и есть врожденная неспособность понимать друг друга. Я верил, что если всё и в самом деле обстоит так, то до краха нашего с вами отечества уже рукой подать; я должен был сделать пускай ничтожную, но самозабвенную попытку противостоять этой трагедии; положение, которое я занимал, возлагало на меня определенную долю ответственности; чтобы получить то единственное знание, которое могло сделать меня пригодным для этой благотворной задачи, я решил, не вызывая подозрений, пожить среди моих соотечественников, которые были отрезаны от меня; даже избавившись от своей известности, я бы непременно возбудил подозрения, если бы меня узнали: люди бы с омерзением отпрянули от моего имени и сословной принадлежности, точь-в-точь как отпрянули вы, Сибилла, когда о них как-то раз мимоходом упомянули в вашем присутствии. Эти самые причины, эти самые чувства и послужили толчком (я не говорю «оправданием») к тому, что я переступил порог вашего дома, назвавшись придуманным именем. Я умоляю вас быть снисходительной к моему поведению, простить меня и не заставлять испытывать горечь оттого, что я утратил расположение единственного человека, в отношении которого я при любых обстоятельствах и в любых условиях непременно буду питать величайшее мыслимое уважение или даже, пожалуй, благоговейную почтительность.
Его прочувствованная речь смолкла. Сибилла на мгновение повернула к Эгремонту свое прекрасное взволнованное лицо, пристально посмотрела на него и уже как будто хотела заговорить, но дрожащие губы отказались повиноваться; тогда, сделав над собой усилие, она повернулась к Джерарду и воскликнула:
— Отец, я в изумлении! Ответь же, кто тогда этот господин, который сейчас ко мне обращается?
— Это брат лорда Марни, Сибилла, — произнес Джерард, оборачиваясь к ней.
— Брат лорда Марни! — почти оцепенев, повторила Сибилла.
— Да, — сказал Эгремонт, — я представитель того нечестивого семейства, один из тех притеснителей простого народа, которых вы с таким испепеляющим презрением обвиняли в моем присутствии.

«Кто тогда этот господин, который сейчас ко мне обращается?» — воскликнула Сибилла.
Локоть Сибиллы покоился на ручке кресла, щеку она подпирала ладонью. Когда Эгремонт произнес эти слова, она закрыла лицо так, что черты его было практически нельзя различить, — и на несколько секунд воцарилось молчание. Затем Сибилла подняла голову и произнесла спокойно и веско, словно очнувшись от глубоких раздумий:
— Я сожалею о своих словах, сожалею о той боли, которую я причинила вам, сама того не желая, искренне сожалею обо всём, что произошло, равно как и о том, что отец потерял хорошего друга.
— Но почему же потерял? — печально, но всё же ласково заметил Эгремонт. — Отчего бы нам не остаться друзьями?
— О сэр! — Голос Сибиллы зазвучал надменно. — Я из числа тех, кто считает, что пропасть непреодолима. Да, — прибавила она, чуть заметно, но с необычайной грацией разводя руками и слегка отворачиваясь от Эгремонта, — совершенно непреодолима.
Порой душевное смятение напоминает стихийное бедствие, когда всё вокруг словно становится с ног на голову и обращается в хаос, но нередко именно в эти минуты небывалого волнения, как и во время самой настоящей битвы, возникает какое-то новое ядро порядка, какой-нибудь новый поведенческий импульс; он развивается сам собой, сдерживает, усмиряет и приводит в гармонию стихии и страсти, которые, казалось бы, угрожали одной лишь утратой надежд и гибелью. Так произошло и с Эгремонтом. Секунду он в отчаянии смотрел на девушку, отделенную от взаимопонимания стеной предрассудков и убеждений, более прочной, чем все остальные сословные барьеры. Секунду, всего лишь секунду смотрел он на нее, и то была поистине секунда отчаяния. В его истерзанной душе обнаружились силы, которые были так необходимы в этой ситуации. Даже присутствие Джерарда, при других обстоятельствах непременно смутившее бы его, не смогло бы ему помешать — но как раз в эту секунду дверь отворилась и в комнату вошел Морли в сопровождении какого-то человека.
Читать дальше