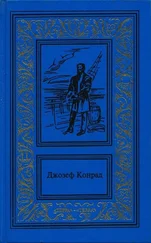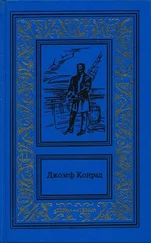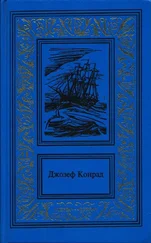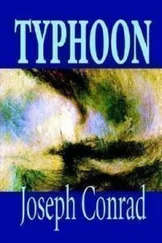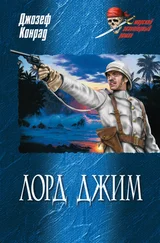Он быстро встал, вздохнул и, произнеся: «Обед подадут через полчаса», покинул меня.
Оставаясь неподвижен, я слушал его быстрые шаги по натертому полу соседней комнаты. Он пересек приемную, заставленную книжными полками, где остановился положить чубук на подставку, а затем перешел в гостиную (это была анфилада комнат), где толстый ковер заглушил его шаги. Однако я услышал, как захлопнулась дверь его совмещенной с кабинетом спальни. Ему было шестьдесят два года, и на протяжении четверти века он был самым мудрым, самым надежным, самым снисходительным опекуном; он дал мне отеческую заботу, любовь и моральную поддержку, которые я всегда ощущал где-то рядом, в каких бы удаленных частях света ни находился.
Что касается пана Николаса Б., – который был младшим лейтенантом французской армии в 1808 году, лейтенантом в 1813-м, недолгое время служил адъютантом при маршале Мармоне, а впоследствии – капитаном Второго полка Кавалерийских стрелков польской армии, которая существовала до 1830 года в окороченном Царстве Польском, каким оно стало по решению Венского конгресса, – то должен сказать, что из всех преданий нашей семьи, известных мне по рассказам и отчасти как очевидцу и вызванных словами только что покинувшего комнату человека, его образ полностью так и не сложился. Я наверняка видел его в 1864-м, едва ли он упустил возможность повидаться с моей матерью, зная, что встреча может оказаться последней. С раннего отрочества и до сего дня, когда я пытаюсь вызвать в памяти его образ, перед моими глазами встает туман, в котором смутно различимы только аккуратно причесанные седые волосы (для семьи Б., где все мужчины благообразно лысеют еще до тридцати, случай исключительный) и тонкий, с горбинкой, благородный нос – черта, полностью соответствующая физиогномическим правилам семьи Б. Но не отрывочными воспоминаниями о частях бренного тела жив он в моем сознании. С самого раннего возраста я знал, что мой двоюродный дед Николас Б. был рыцарем Почетного легиона и кавалером польского ордена Воинской доблести. Эти два факта его славной биографии вызывали во мне благоговение; но все-таки не в этом чувстве – каким бы глубоким оно ни было – выражается для меня сила и значительность его личности. Верх взяло другое впечатление, в котором смешались трепет, сострадание и ужас. Пан Николас Б. остается в моих глазах тем несчастным, пусть и отважным, горемыкой, который когда-то давным-давно съел собаку.
Прошло добрых сорок лет с тех пор, как я услышал эту историю, но впечатления от нее так и не поблекли. Пожалуй, это была первая история из реальной жизни, которую я услышал. И все же я до сих пор не могу понять, почему это произвело на меня такое чудовищное впечатление. Уж мне ли не знать, на что похожи наши деревенские псы – и все-таки… Как можно?! Сегодня, воскрешая в памяти ужас и жалость, испытанные в детстве, я задаю себе вопрос: правильно ли раскрывать перед холодным и взыскательным миром столь жуткое событие семейной истории? Я спрашиваю себя: вправе ли я? Тем более что семейство Б. всегда славилось в округе изысканным вкусом во всем, что касалось еды и напитков. Но по большому счету, учитывая, что гастрономическая деградация, постигшая доблестного молодого офицера, напрямую связана с Наполеоном Бонапартом, думается, что сокрытие этого эпизода означало бы капитуляцию перед излишне бдительной внутренней цензурой. Пусть правда останется здесь.
Вся ответственность лежит на муже с острова Святой Елены и связана с его досадным легкомыслием в проведении русской кампании. Дело было во время достопамятного бегства из Москвы, когда Николас Б. и два офицера из его полка (о чьих нравственных качествах и утонченности вкуса мне ничего не известно) прикончили на краю деревни собаку, после чего ее сожрали. Насколько я помню, в качестве орудия убийства использовалась кавалерийская сабля, и вопрос жизни и смерти в этой охотничьей истории стоял куда острее, нежели в рассказах о схватках с тиграми.
В деревне, затерявшейся в глуши литовских лесов, остановился на ночлег казацкий сторожевой отряд. Трое охотников наблюдали из укрытия, как в ранних, сгущавшихся уже к четырем пополудни зимних сумерках, казаки располагались по хатам, чувствуя себя совершенно как дома. Наблюдали с отвращением и, вероятно, отчаянием. Когда наступила ночь, крепость благоразумия пала под натиском мучительного голода. Они поползли по снегу и добрались до изгороди из прутьев, какими обычно окружают деревни в этой части Литвы. Чего они хотели добыть и каким образом и стоило ли это такого риска, одному Богу ведомо.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу