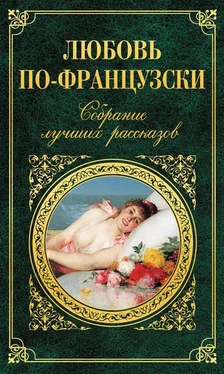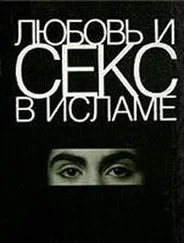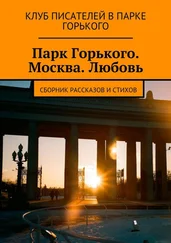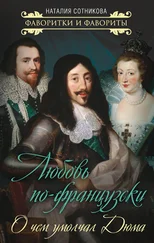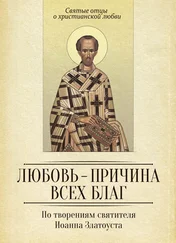Внезапно раздался резкий шум, золотые нити порвались, и Тибурций покатился на землю. Он открыл глаза и увидел только устрашающую бронзовую физиономию, уставившую на него большие эмалевые глаза: казалось, это были одни белки.
– Mein Herr [34], вот ваш завтрак, – сказала старая негритянка-готтентотка, служанка отеля, ставя на столик поднос с посудой и серебром.
– Ну и дела! Мне надо было поехать в Африку, чтобы найти блондинок! – пробормотал Тибурций, с отчаянием принимаясь за бифштекс.
Как следует позавтракав, Тибурций вышел из отеля «Брабантский герб» с твердым и похвальным намерением продолжать поиски своего идеала. Ему посчастливилось не больше, чем вчера; темноволосая ирония, появляясь на всех улицах, посылала ему лукавые и насмешливые улыбки: Индия, Африка, Америка проходили перед ним в более или менее бронзовых обликах; можно было подумать, что сей достойный город, зная его намерения, в насмешку прятал в глубине своих непроницаемых задних дворов и за самыми темными стеклами всех тех своих дочерей, которые могли бы напомнить лица Иорданса и Рубенса: скупясь на золото, он предлагал черное дерево.
Оскорбленный этим молчаливым издевательством, Тибурций, чтобы избавиться от него, пошел в музеи и картинные галереи. Фламандский Олимп снова засверкал перед его глазами. Потоки волос потекли мелкими рыжими волнами, отсвечивая золотом в лучах солнца; плечи аллегорических дев, оживляя их серебристую белизну, сверкали живей, чем всегда; лазурь глаз становилась прозрачнее, юные щеки расцветали, как пучки гвоздик; розовая дымка согревала голубоватую бледность колен, локтей и пальцев этих белокурых богинь; сверкающие переливным атласом пятна света, красноватые отблески, играя, скользили по круглым и полным телам; сизые драпировки, вздуваясь от дыхания невидимого ветра, запорхали в лазурной дымке; свежая плотская поэзия нидерландского искусства полностью открылась нашему вдохновенному путешественнику.
Но красавицы на полотнах не удовлетворяли его. Он приехал, чтобы найти живые, реальные образы. Достаточно долго питался он поэзией, написанной и нарисованной, и теперь ясно понял, что общение с абстракциями не очень-то насыщает. Конечно, было бы гораздо проще остаться в Париже, стать, как все, любовником хорошенькой или даже некрасивой женщины; но Тибурций не понимал природы и умел воспринимать ее только в переводах. Он великолепно понимал все типы, воспроизведенные в творениях мастеров, но он бы не заметил их, если бы они встретились на улицах или в освещенных гостиных; одним словом, если бы он был художником, он бы рисовал виньетки к стихам поэтов, если бы он был поэтом, он бы писал стихи к картинам художников. Искусство овладело им еще в очень юном возрасте, совратило и испортило его; эти черты присущи нашей слишком утонченной цивилизации гораздо больше, чем кажется, мы чаще встречаемся с произведениями людей, чем с произведениями природы.
Одно мгновение у Тибурция возникла мысль схитрить с самим собой, и он сказал себе трусливую, неискреннюю фразу: «Каштановый цвет волос – красивый цвет». Негодяй, подлец, Фома неверный, он дошел даже до того, что признал черные глаза очень живыми и весьма приятными. В оправдание его нужно все же сказать, что он безрезультатно обошел все уголки города, который с полным основанием мог считаться городом блондинок. Некоторое разочарование было ему простительно.
В то время как он произносил про себя эти кощунственные слова, чьи-то прелестные голубые глаза, прячущиеся в мантилью, блеснули ему и исчезли, как блуждающий огонек, где-то на углу площади Мейр.
Тибурций ускорил шаг, но ничего не увидел; улица на всем протяжении была пуста: несомненно, беглый призрак вошел в один из соседних домов или скрылся в каком-нибудь неведомом переулке; разочарованный Тибурций, посмотрев на колодец, украшенный железными завитками, выкованными Квентин-Метцисом, художником-чеканщиком, решил, так как ему не представлялось ничего лучшего, посмотреть собор, отвратительно вымазанный сверху донизу канареечно-желтой клеевой краской. К счастью, резная кафедра работы мастера Вербруггена, с орнаментом из птиц, белок, индюков, распустивших хвосты, и со всем этим звериным миром, окружавшим Адама и Еву в земном раю, искупала грубую окраску стен тонкостью граней, изобретательностью деталей; к счастью, гербы дворянских семейств, картины Отто Вениуса, Рубенса и Ван Дейка отчасти скрывали эту безвкусицу, столь любимую буржуазией и духовенством.
Читать дальше