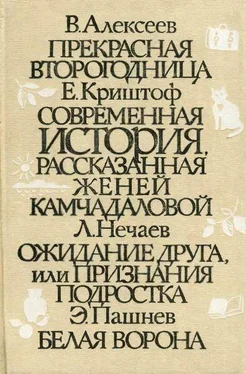Сидим и, вместо того чтоб думать о самом простом, о математике устной, думаем о жизни. Я, например, рассматриваю свою правую руку, думаю, что правильно ударила Пельменя. Если бы не я, его бы ударил Гром, а это было бы куда более чревато, как любит говорить Шполянская-старшая.
С меня что взять? Какой-нибудь незначительный штрих к портрету и без того «этого ужасного девятого «Б»? Который — подумать только! — так прекрасно начинал год, отличился и в совхозе, и потом буквально во всех мероприятиях, а теперь как с цепи сорвался! Это было выражение моей бабушки, очень подходящее к случаю и наверняка прозвучавшее в учительской.
Однако что там делалось в учительской, я могла только предполагать. И представлять, как Марточка все еще бросается от одного к другому и почти кричит: «Интересно, а как бы вы реагировали? Это же почти то же самое, что назвать человека вором. Он назвал абсолютно порядочного человека вором!»
Правда, мне больше хотелось, чтоб за меня и за моего отца заступались как-нибудь иначе. Мне хотелось, например, чтоб Мустафа Алиевич стукнул кулаком по столу: «Если не мы, то кто же защитит?» Там, во дворе, утром именно он первый схватил Мишку за плечи и, отрывая от земли, спросил всего одним словом:
— Зачем?
Хорошо же он отгадал характер Пельменя, если не поинтересовался: «Почему?», а сразу крикнул: «Зачем?».
Но больше всего, как ни трудно в этом признаваться, мне хотелось, чтоб Лариса-Бориса не молчала все это время, не двигалась как в тумане, предоставив другим расталкивать, растаскивать, поить валерьянкой и умывать наш ужасный девятый «Б».
Почему она не прикрикнула на Пельменя раньше, чем я размахнулась? Она, так ценившая быструю реакцию. Почему не заступилась за Вику, когда Пельмень говорил о ней гадости? Но подобные вопросы можно было задавать до бесконечности. И до бесконечности оглядываться на пустую половину парты, где должна была бы сидеть моя подружка, которую еще совсем недавно мама называла солнышком, а я сравнивала с лучиком.
Что толку? Вики не было…
А в остальном экзамены продвигались вперед, как им было положено, и вот уже Тоня Чижова со всем старанием выводила на доске вместо функции тангенса что-то несусветное, а Шура Денисенко пыталась оттянуть ее внимание на себя, шипя, кашляя и даже как бы в отчаянии размахивая руками. Обычная самоотверженность не покидала Шурочку, на этот раз, кажется, даже радуя глаз родных учителей.
Еще бы! После всего случившегося подсказка, должно быть, казалась им милым и неоспоримым признаком детства, безнадежно отвернувшегося от нас.
Между мной и Шурой Денисенко сидел Пельмень. Круглая голова его, неподвижно вбитая в неподвижные плечи, притягивала мой взгляд и мысли. Я думала: какой он, к черту, Хозяин? Надел для важности эту маску, тесемочки завязать не успел — болтаются. И роль не дается, хоть плачь. От таких картинок мне не становилось жаль Мишку. Я ему ничего не намерена была прощать, но той злости уже не было. Возможно, потому, что Марта Ильинична не только хорошо вымыла мне лицо, толкнув под кран, но еще за шиворот напустила холодной воды. Платье от этого липло к спине, и сидела я, кажется, тоже в луже.
Сидела в луже, смотрела в затылок Мишке Пельменю и вспоминала, в каком это классе Мишка стал отнимать у Генки монеты, выданные на мороженое? В третьем? В четвертом? Жалкие гривенники, зажатые в кулаке из последних сил, переходили в Мишкин карман. Однако прежде чем исчезнуть в кармане, монетка взлетала в воздух перед самым Генкиным носом, и Мишка наклонял к нему веселое от удачи лицо.
Мишка, конечно, был сластена. Но больше конфет и пирожных в школьном буфете ему нравилось ощущение власти над Генкой, над Оханом и другими. Однажды он сунулся и к Шунечке.
Надо признаться, Денисенко смерила его тогда отличным недоумевающим взглядом: «Жизнь тебе надоела, Садко? Тебя же Гром в белые тапочки обует!» И Мишка оставил ее в покое, как и многих других в классе. А Генка был толстым, смешным и писал почему-то поэму о бобрах. Не тогда ли родители стали направлять его то в одну спортивную секцию, то в другую, авось поможет?
Но Генке помогли не секции…
Такое длинное детство все еще было, очевидно, со мной, с Чижовыми, с Шурой Денисенко. А Вика до сих пор не находилась. Не поэтому ли мы опять так сжались, так объединились? Конечно, никто не представлял, что Вика исчезла навсегда. Что ее убили, например. Или что она сама каким-то образом умерла. Но ее не было среди нас. И ей, скорее всего, угрожала опасность.
Читать дальше