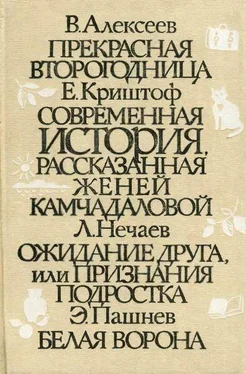Однако надо признаться, информация ее была свежее моей. О фиале я еще ничего не знала. Я и не думала ни о каких фиалах, когда стояла час назад под окнами больницы. Хотя ни увидеть, ни услышать ни Генку, ни отца я не могла. Но мне не обязательно было увидеть. Мне хотелось, мне необходимо было оказаться поближе, придвинуться к ним. И потом, не оставаться же было дома одной: мать не возвращалась и не собиралась возвращаться с дежурства.
…Я смотрела на Марту Ильиничну сначала просто с неодобрением, потом зло я на нее стала смотреть, потому что в пределах слышимости и видимости появился Мишка Пельмень и двигался на нас. А ему-то уж совсем ни к чему было включаться в наш разговор о фиалах и следователях.
Мишка шел по двору широким шагом человека, которому хорошо.
— Громом интересуетесь? — спросил он, бодренько выставляя ногу. — Громов явится, вплоть до особого распоряжения поступит в ваше распоряжение.
Он хохотнул довольно. Потом отдельно и ободряюще и с важностью улыбнулся Ларисе-Борисе; Марте Ильиничне отвесил что-то вроде поклона, уронив свою круглую голову, вполне дружественно кивнул мне. И снова прищурил на Ларису глаза, поглядел пристальнее.
— Я говорю: и угораздило влезть во все это перед самыми экзаменами? — Грудка у него была откормленная, сытенькая. И весь он переливался довольством.
— Можно подумать, жизнь прикидывает, когда у нас экзамены, а когда каникулы, — отмахнулась я.
— Нет, почему же? — Пельмень вплотную надвинулся на меня, и я вдруг увидела, какой у него маленький рот, как у ящерки, подковкой. — Почему не сообразить так называемым девочкам, что некоторыми вещами можно заниматься после получения аттестата? Почему?
Он, разумеется, метил в Вику. А заодно и меня прихватывал.
— Да, почему? — эхом повторила Лариса. — Хотя откуда мы знаем…
— Ну, хорошо. — Мишка поднял ладонь, останавливая и как будто собираясь успокоить Ларису. — Ну, хорошо, чувство их меня, допустим, не колышет. Но кто нам объяснит, зачем Громов таскал на раскопки Поливанова?
— Громов и объяснит, — сказала я.
— Не скоро. Он там, у следователя, подписку дает.
— Подписку? — жалобно вскрикнула Лариса, поднося руки к щекам. — О чем подписку?
— О неразглашении государственной тайны, — улыбнулся Пельмень, как будто намекая: ни государственного, ни особо таинственного ничего, разумеется, нет.
— Следователь — что? — Лариса-Бориса смотрела на Пельменя с надеждой и опасением. — Следователь считает, Громов все-таки имел отношение?
— А это придется выяснить у самого следователя. Я — пас! — Тут Пельмень вскинул уже обе ладони, как стенку перед вопросами Ларисы-Борисы.
— А ты откуда знаешь, что Громов у следователя?
На Ларису жалко было смотреть.
— Я знаю только — дыма без огня не бывает. Громову предстоит объяснить, каким образом Поливанов оказался на катере, а Камчадалову — почему золото пряталось в его доме.
— Нет? — спросила саму себя Лариса и, подняв руки, не донесла их к вискам. Потому что я ударила Пельменя. Я ударила его сильно, так что руке стало больно. Я ударила его, ощущая податливую мягкость щек, губ, носа. Я била растопыренной ладошкой и не один раз. Бешенство, вселившееся в меня, бушевало напропалую, застилая глаза.
Но кое-что я все-таки видела.
Лариса продолжала стоять со своими застывшими руками. Марта Ильинична, схватив меня за плечи, оттаскивала в сторону. Пельмень, как это ни странно, не двигался. А во двор дружно и разом вваливалась добрая половина нашего класса, и впереди, конечно, Гром.
Потом Марточка, одной рукой держа меня за шиворот, другой смывала с моего лица слезы и сопли. Ладошка у нее оказалась такая же настойчивая, как у бабушки, и мне заботы ее были скорее приятны. Как вдруг, все еще всхлипывая и слабо выворачивая лицо из-под Марточкиных пальцев, я вспомнила:
Эх, яблочко, переспелое,
Отойди от нас, мамаша, сами сделаем…
Неужели там, в совхозе, она хоть раз, да слышала эти слова, показавшиеся сегодня мне просто ужасными? Мы, надо сказать, их проборматывали вполголоса, не то что остальные «дразнилки», но — вдруг?
Мне не захотелось поднимать голову из-под крана, смотреть Марточке в глаза. Показалось, она думает о том же, о чем я. Мои мысли ей передались. Но лицо у нее оставалось обыкновенным, озабоченным и только побледневшим.
…И вот мы сидим на экзаменах, остывшие, отпоенные валерьянкой, великодушно если не прощенные, то на некоторое время оставленные в покое (как раз на время экзаменов, результаты которых, как известно, влияют на лицо школы — о лице класса уже никто не думает).
Читать дальше