В блиндаже лежало несколько автоматов. Я взял один себе, другой дал Садыку, и мы пошли в свое подразделение. Нас сопровождал связной. Навстречу попадались раненые — кто шел, кто полз. Спустились в траншею и увидели убитых. Здесь вела бой рота капитана по фамилии Перебейнос. Мы сразу встретились с ним. Он стрелял из снайперской винтовки. «Давно воюет», подумал я, увидев его стоптанные сапоги. Все лицо Перебейноса было залеплено кусочками какого-то белого пластыря, таких заплаток на его лице было штук десять — на щеках, на подбородке, на носу, на лбу под самым шлемом, сбитым на затылок.
— Как дела? — спросил я, представившись ему.
— Какие дела? Еще только ждем дела, — ответил он.
— А это что? — я показал на трупы.
— Так, драчка маленькая. И меня вот осколками поцарапало, — сказал он, прижимая пальцем пластырь, плохо прилипавший к носу.
До войны я редко вспоминал прошлое, больше как-то думалось о будущем, а на фронте только выпадет свободная минутка, и в мыслях уже встает пережитое. Ночь и отдохнуть бы можно, но задумаешься, и сон не идет.
О чем только не передумаешь на войне, особенно перед боем! Иной раз приходят в голову такие чисто ребяческие мысли, что взрослому человеку и сознаваться в них просто неловко. Как-то вот, усомнившись, действительно ли я такой мужественный, волевой человек, каким стремлюсь быть, я стал припоминать, какого цвета глаза у людей, в волевых качествах которых нельзя сомневаться, и был очень удручен тем, что у всех у них, кто только на ум ни приходил, глаза темные. А потом вспомнил, что у Николая Щорса, одного из тех героев, похожим на которых мне хотелось быть, глаза такого же цвета, как и у меня, — светлосерые, и сразу повеселел.
С молодых лет я, как говорится, выковывал себя и, кажется, достаточно уже испытал себя и на войне, знал, что не трус. Бывало, конечно, что засосет под сердцем, но это только перед боем, когда ждешь его, а тут еще кто-нибудь затянет тоскливо:
Где же ты, милая, где, дорогая…
Хоть раз бы услышать тебя перед боем,
Увидеть сиянье очей…
Перед боем нервы у всех натянуты; кто песни поет, думая о доме, кто письма пишет домой, в голове тысячи мыслей — и все об одном. Увидишь в траншее могильного жука и начнешь с ним разговаривать: «Смотри, какой пострел, явился уже! А ну-ка кругом, шагом марш из траншеи, чтоб тут и духу твоего не было! Нечего ко мне подбираться, паршивец ты этакий, я еще, жучок, живой, ты меня, пожалуйста, не пугай, я тебя нисколько не боюсь. Вот положу тебя в карман и отправлю в письме к сыну, напишу ему: „Ты, Витя, посади этого паршивца на булавку. Вернусь с войны, тогда мы поговорим с ним как следует, будет знать, как пугать нас“».
Было у нас в батальоне два неразлучных бойца-дружка. Один совсем молодой, курносый паренек, другой пожилой, кажется многосемейный, похожие друг на друга, как отец и сын. Кто-то из них был родом из Калуги, кто-то из Костромы. Одного звали Кострома, другого — Калуга. Перед боем сядут рядом и заголосят, как слепцы:
Я знаю, что больше не встану,
В глазах непроглядная тьма…
Весь взвод притихнет, пока не раздастся чей-нибудь голос:
А ну-ка дай жизни, Калуга!
Ходи веселей, Кострома!
И кажется, сразу словно солнце из-за туч проглянуло, все вокруг посветлело, заиграло — на душе легко, весело. Где они, Кострома моя, где Калуга? Думал, далеко-далеко, увидимся ли когда, а они тут, родные мои, вот они.
На войне очень приятно, когда услышишь о знакомом городе, а земляка встретишь — кажется родным человеком. Я сразу решил, что в ординарцы возьму обязательно земляка. В батальоне у нас кого только не было — и узбеки, и татары, и казахи, — и ярославец, конечно, нашелся, Сашка Иванов. Услышал, что кто-то говорит в нос, растягивая слова, как резину, ну, думаю, наверное наш, ярославский. Так и оказалось. Спрашиваю его:
— Грибы любишь?
— Люблю.
— Ну так вот, сковородочка у тебя чтобы всегда была: попадутся в лесу грибы — соберешь, поджаришь по-нашему, по-ярославскому.
Сначала он ленивый был. Скажешь:
— Саша, будем спать, тащи соломы.
Он вздыхает:
— Сырость от нее только, товарищ старший лейтенант. Может, лучше без соломы?
— Ну, не разговаривай, живо!
Покрутится около, вернется без соломы:
— Нет соломы, всю разобрали.
— Чего ты мне врешь? Вон в поле целый стог стоит!
— Так это ж далеко.
— Я тебе дам — далеко. Бегом марш!
Пойдет бывало и пропадет. Потом я его воспитал. Мы с ним договорились: кричу — Сашка, Сашка, Сашка — до трех раз, не откликнулся — тащи сейчас же ведро холодной воды и обливайся при мне. Метод нельзя сказать, чтобы правильный, и Сашке, конечно, не понравился, но зато он быстро резвый стал, забегал.
Читать дальше
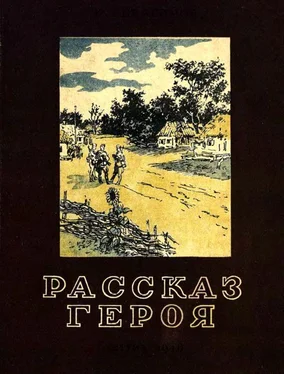
![Василий Соколов - Привала не будет [Рассказы о героях]](/books/27316/vasilij-sokolov-privala-ne-budet-rasskazy-o-geroya-thumb.webp)
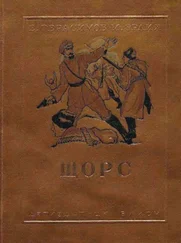


![Евгений Герасимов - Чудесный источник [Повести]](/books/417188/evgenij-gerasimov-chudesnyj-istochnik-povesti-thumb.webp)






