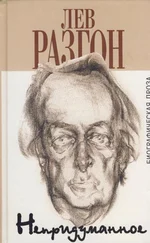…Почему говорят — «славная смерть»?.. Нет, она подлая, гнусная! Как она могла убить Ленина! Сейчас, когда все страшное уже позади, когда все налаживается… Он не увидит их станцию, не приедет на Волхов, не спросит у Юрия Кастрицына, где он работает… Они больше никогда не станут посылать ему приветствия, не будут кричать на демонстрациях «Ленину привет!».
Платком, ставшим сейчас же мокрым и грязным, Юра вытер лицо. Он медленно пошел в ячейку. Только по тому, что Столбов заканчивал писать, Юра понял, сколько времени он отсутствовал. По-прежнему никто не разговаривал друг с другом, только Омулев вполголоса что-то говорил Точилину. Лицо у Омулева было смертельно усталое, будто он не спал много ночей или же только что пришел после долгой и тяжелой рабочей смены.
Объявление уже вывесили, множество народа толпилось перед клубом, и сквозь гул голосов было слышно, как плачут женщины. Начинались какие-то хлопоты, в комячейке составляли список делегации, которая поедет в Москву на похороны. Похороны Ленина… Заведующий клубом озабоченно писал требование на красную и черную материю и советовался со всеми, сколько же аршин надобно…
И были после этого призрачные, какие-то вроде приснившиеся дни и ночи. Во всей жизни — и Юриной, и всех ребят, и всех людей на Волхове, — во всей стране и во всем мире наступил перелом. И в природе тоже. Страшные, невероятные по силе морозы свалились на стройку. Воздух заледенел и обжигал горло. Земля сразу же стала как камень, и не только экскаватор — шпурный бур ее не брал. Прекратили бетонные работы — бетон замерзал, как только выходил из бетономешалки. Везде горели костры, дым от них подымался недвижимыми столбами в белесое небо, на котором висело негреющее солнце.
27 января Юра Кастрицын стоял со всеми в огромной толпе перед клубом. Какая-то изморозь падала на застывшие лица. В четыре часа завыли гудки. Они ревели натужно и тревожно: тоненько — катера на приколе, пронзительно — паровозики на узкоколейке, глухо — на электростанции. Со стороны Званки доносился неистовый рев паровозных гудков.
— «Вы жертвою пали в борьбе роковой, любви беззаветной к народу…» — пели рядом с ним взрывник Макеич, Гриша Варенцов, множество людей, все почти, кого знал Кастрицын.
Он пел вместе с ними знакомые слова скорбной и торжественной песни, он знал, что в эту минуту в Москве опускают в землю тело Ленина.
В надвинувшихся сумерках перед Юрой Кастрицыным лежала река, а на ней — полукруг плотины, справа в лесах виднелось здание электростанции, к ней примыкали серые и голые стены шлюза. Все это было построено ими — этими людьми, им, Юрой Кастрицыным. Здесь будут стоять великая станция, и заводы, и новый город с большими, красивыми домами, полными цветов и детей. Ленин этого уже никогда не увидит. А может быть, не увидит и он, Юрий Кастрицын… Но это не имеет значения! Все равно — после Ленина и после него, после всех, это останется. После них, после вот этих стоящих рядом коммунистов и комсомольцев, останется новая жизнь, построенная для людей… И как не забудут никогда Ленина, так не забудут и их, ленинцев. Погибнут ли они в бою, перевернутся ли на маленьком пароходике посреди реки, сорвутся ли с люльки канатной дороги или же просто умрут от старости или болезни в своей постели… Важно прожить жизнь так, чтобы от тебя осталось что-то настоящее.
«…Прощай же, товарищ! Ты честно прошел свой доблестный путь, благородный…»

До того времени, как Клава не услышала противную песенку про противную совбарышню, она не имела ничего против того, чтобы ее звали Клавочкой. Так ее звали все восемнадцать лет жизни. Звали дома в детстве, звали так в школе. И когда Клава кончила в Новой Ладоге школу второй ступени и отец ее, Сергей Петрович, переехал на Волховстройку бухгалтером, все новые соседи с первого же дня стали ее звать Клавочкой… И когда отец после больших хлопот, после долгих уговоров биржи труда устроил ее делопроизводителем в конторе и привел на работу, он тем заискивающим голосом, который так не любила в своем отце Клава, сказал:
— Ну вот, товарищи-граждане, моя Клавочка… Вы ее не обижайте, она у меня хорошая девочка, всегда была примерной и послушной. Я на вас надеюсь…
Но Клаву и без его просьб в конторе все сразу же полюбили и все сразу же стали звать Клавочкой. Да и трудно было ее не полюбить. Отец про нее говорил правду. Клава действительно была в Новоладожской школе второй ступени самой послушной и примерной ученицей. Учились в школе очень шумные и совершенно не расположенные слушать учителей мальчики и девочки. Все они состояли во множестве кружков и ячеек. Была ячейка МОПР, ячейка безбожников, ячейка «Друг детей» и даже ячейка «Руки прочь от Бессарабии»… Уж не говоря о комсомольской ячейке, куда входили самые старшие ребята — некоторые из них даже в ЧОНе состояли и лихо приходили на уроки перетянутые красноармейским поясом, с подсумками на ремне… Уроки для них были досадным дополнением к главному: кипучей работе во всех этих ячейках. Спектаклям, лекциям, вылазкам, заседаниям, спорам, воскресникам, демонстрациям… Любимым словом Клавочкиных школьных товарищей было: «Буза!» Этим непонятным словом обозначалось все. Бузить — значило спорить до изнеможения, устраивать подвохи нелюбимым учителям, подкапываться под учком, не соглашаться… «Все это буза! Все ваши короли никому не нужны, и нечего их зубрить!» — заявил учительнице истории Игорь Зубков, главный коновод в Клавочкином классе.
Читать дальше