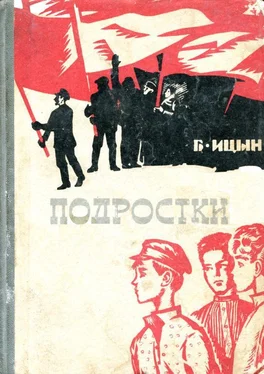И вот однажды, когда матери не было дома, Данила сказал:
— Ну, товарищ Дмитрий, беги к своим, скажи, что завтра большая демонстрация. Начинаются дела. Царь с перепугу раздобрился, манифест объявил. — Он нервно потер руки и продолжал: — Обещает свободу слова, печати, собраний. Государственную думу выбирать будут. Это конституцией теперь называется. Послушал бы ты, как сегодня на собрании меньшевики да кадеты верещали. Можно подумать, что революция победила. Подачкой довольны. Готовы за куцую цареву конституцию интересы рабочего класса продать.
Данила широко шагал по маленькой комнатке.
— Значит, теперь свобода собраний, казаки не имеют права митинги разгонять, да? — спросил младший Губанов.
— Вот, полюбуйтесь, — парень остановился и, точно разговаривая с кем-то третьим, показал рукой на братишку, — этот тоже уши развесил. Да разве можно волку верить, что он овец стеречь будет? Но мы не овцы, понял, не овцы!
— Значит, драться будете?
— А как ты думаешь? Завтра увидишь.
Митя быстро схватил картуз и бросился из комнаты.
— К дружкам, что ли? — вдогонку спросил Данила.
— Ага, к ребятам!
Даже перевалив за половину, октябрь стоял на редкость хороший. Правда, с утра пораньше крепко подмораживало, но к полудню становилось тепло. Нудные холодные дожди прекратились, а снег еще не выпадал. Деревья сбросили последние листы, и золотисто-желтый ковер покрывал землю в палисадниках и по обочинам дорог.
Но ребята не замечали всего этого. Они были захвачены событиями. Да и не только они.
Теперь на улицах поселка всегда царило оживление. Вот и сегодня народ стоял кучками, возбужденно разговаривая. И у всех на устах было одно и то же слово — манифест. Человек тридцать толпилось на паперти поселковой церкви, на дверях которой был вывешен этот манифест.
Митя с приятелями протискался вперед. Какая-то старушка, глядя на четырехугольный лист, наклеенный на дверях, всхлипывала и поминутно крестилась. Несколько женщин стояли, замерев, и благоговейно смотрели на толстого усатого лавочника, который надевал большие очки в железной оправе и откашливался, готовясь начать чтение.
— Эй, которые там в задних рядах, скинь шапки, царский манифест читать буду, — предупредил он и начал, растягивая каждое слово:
«…Божьей милостью, мы, Николай вторый, император и самодержавец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочая, и прочая, и прочая.
Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великою и тяжкою скорбью преисполняют сердце наше…»
Старушонка начала всхлипывать еще громче, а молодая женщина с ребенком на руках вздохнула и почему-то вытерла рот рукой.
— Эй, земляк, плохой из тебя дьяк! — Вперед протиснулся невысокого роста мужичок в рваном пиджаке и засаленной кепке. — Не так читаешь. Слушай, народ православный! — И он высоким, звонким тенорком посыпал скороговоркой:
«…Божьей хитростью, мы, Николай последний, кровопиец всероссийский, грабитель польский, обиратель финляндский и прочая, и прочая, и прочая…»
Все это он проговорил быстро, но четко, ни лавочник, читавший манифест до него, ни слушатели не могли опомниться, хотя и слышали все слово в слово. А новоявленный чтец продолжал:
«…Забастовки и революции в столицах и во многих городах империи нашей великим страхом и злостью преисполняют сердце наше…»
— Ты это чего же? — спохватившись, рявкнул торговец. — Кощунствовать? Богохульничать? Царя-батюшку срамными словами поносить!? Ах, ты, раз… — и он размахнулся, но мужичок с изумительной ловкостью увернулся, соскочил с крыльца и крикнул:
— Не имеешь полного права, читал: свобода слова.
— Я тебе дам, паршивцу, свободу слова! — сбежав с крыльца, закричал торговец и ухватил мужичка за отвороты пиджака.
Из толпы шагнул молодой парень.
— Но, но, ты тоже не замай, — он оттолкнул торговца, — может, человек выпимши.
— Выпимши! Все вы смутьяны, голодранцы!
Толпа зашумела. Одни приняли сторону торговца, другие пытались заступиться за человека в рваном пиджаке. Из-за угла показался городовой.
— Господа, что за шум? Расходитесь, расходитесь!
Читать дальше