Текст был, что называется, из жизни. «Гоголь по-саркисовски» — это предложила Мага. А теперь все застряло на месте из-за Тахиры.
Мы с Магой не выдержали, пошли к Тахире.
В общем дворе у них закоулки, заборчики, загородки. Заблудишься! Летом еще ничего, за каждым заборчиком свой сад-огород. Но сейчас за оградами голо. И двор унылый, как зверинец, из клеток которого увезли зверей.
Тахиркино крыльцо в дальнем углу. Летом и у них беседка из виноградника, золотые шары, райхон. Сейчас сбоку крыльца желтый глиняный холмик, похожий на свежую могилу. Но это упрятан на зиму виноградник.
Мы стучим долго. Куда все подевались? Шумный Тахиркин дом словно вымер.
Отчего-то становится тревожно. Будто изнутри смотрит на меня в замочную скважину холодный, немигающий глаз. Глупости, никого там нет. У своих они, в старом городе. Пошли на дастарханчик.
— Ну, Тахирка! — возмутились мы. — Пусть только явится завтра в школу!..
Мы поворачиваем уходить. И вдруг дверь распахивается. В дверях — Тахира, нечесаная, с зареванным лицом.
— Я не выйду!
С треском захлопывается дверь. Я гадаю: заболела мать? Увезли в больницу кого из младших? Господи, что еще может у них случиться?!
Не сразу слабо подалась дверь. Высунулся конец серого рулона. Наша газета!
Следом появилась черная голова пятилетнего Рафката. Мы выхватили у него рулон, раскатали. И переглянулись. Тахира ничего не нарисовала! Тогда зачем передала газету?.. Мы готовы обрушиться на Рафката. Но он, приплясывая босиком на стылых ступеньках, несет совершенную чепуху:
— Будет той! Катта той! Якши плов — катта плов!
Глаза его ликуют, лезут из орбит.
Кто-то мышью заскребся в стекло.
Я подскочила в постели. Мама резко двинула стулом у бюро, вышла в столовую, прикрыв за собой дверь. Там заговорили по-узбекски. Кажется, кто-то плакал.
Я на цыпочках подбежала к двери. Ее держали с той стороны.
— Аня-апа, Аня-апа! — голос молил, захлебывался слезами.
Тахира?!
Я дернула дверь. Ее уже не держали. Тахира стояла на пороге, маленькая, с плечами закутанная в платок. Рядом, путаясь в рукавах, натягивала пальто мама.
— Куда вы? Что случилось? — всполошилась я.
— Тихо! Все спят. Я скоро вернусь. И не стой босиком, простынешь!
Кажется, я все же уснула. Открыла глаза — мама дома. И сразу давешнее вернулось ко мне.
— Что у них, мам?
Мама вздохнула, поправила фитилек в коптилке.
— Плохо там, дочка. Тахира выходит замуж.
— Как… замуж? А школа? Ей… ей же пятнадцать лет!
— Не кричи так, разбудишь Люську. У узбеков приняты ранние браки. Впрочем, по бумагам Тахире теперь восемнадцать лет…
Голос у мамы усталый. Нет, покорный!
— Да кто же сейчас выдает насильно? — взрываюсь я.
— Голодно им, трудно. Ты же знаешь, как они бьются. А жених из богатого дома.
— Но у них такая мать! — Я еще не могу поверить. — Она же все понимает. Ведь у Тахиры талант, ей учиться надо!
— Плачет она, но что делать? Что делать?! Говорила я с ней. Твердит: «Если бы жив был отец». Ведь четверо у нее. Чет-ве-ро! Жить как-то надо. Давай-ка ложиться, два часа скоро, а ты не спишь.
Увозили Тахиру в воскресенье.
Мы сбежались, как по сигналу тревоги, едва различили у них во дворе глухие, барабанные удары в бубен. Вся Некрасовская высыпала из калиток — поглазеть, посудачить. Мы держались вместе: Маня в форменной шинели, я, Танька с Вовкой. С Танькой мы не разговаривали, но ее большие, испуганные глаза нет-нет и встречались с моими. Потом Вовка исчез куда-то, а мы, теснясь и перебрасываясь словами с Маней, заглядывали в ворота.
Во дворе, у своих загородок, переговаривались соседи. Покачивали головами. Это до странности напомнило мне другое, виденное однажды. Тогда у них тут умер какой-то дядька, и все стояли так же, группами, тихо переговаривались и качали головами.
Появился Вовка — с малиновым лицом. Дышал запаленно. А с ним почему-то Сережа. Белее стенки! И волосы потемнели от пота, растрепались влажными колечками. Нас он не замечал. Смотрел в глубину двора черными расширенными зрачками.
Потом быстро прошел в ворота. Вовка ринулся за ним.
Проснувшись, затараторили бубны, затрубил карнай. Там, в глубине, почувствовалось шевеление. Звуки сдвинулись, поползли, к ним добавились вскрики и плач.
— Идут!
Из-за поворота брызнули ребятишки. И тотчас комом вывалилось пестрое, полосатое.
Яростно били бубны, вертелись в толпе плясуны в новых халатах.
Чудовищным хоботом рыскал карнай, трубя, обшаривал жадно воздух.
Читать дальше
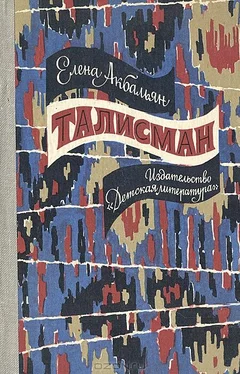





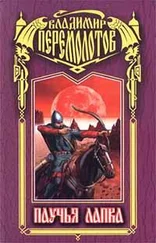

![Валентин Бабакин - Талисман для героя [СИ, самый полный вариант]](/books/410469/valentin-babakin-talisman-dlya-geroya-si-samyj-pol-thumb.webp)

