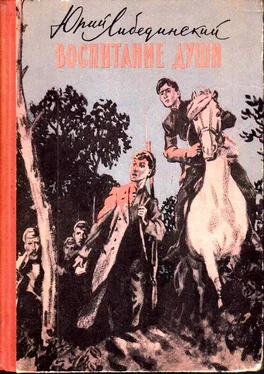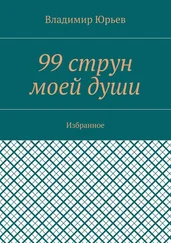На перроне наступило молчание, две нации рассматривали друг друга.
— Какие красивые люди… — вдруг тихо сказала мать.
И верно, эти смугло-желтые, с черными бровями спокойные лица были отмечены какой-то чуждой красотой. А один из них вдруг наставил черный ящичек с блестящим глазком, нажал кнопочку. Может быть, где-нибудь в Японии, по странному стечению обстоятельств, сохранился фотографический снимок, запечатлевший небольшое каменное здание вокзала у подножия поросшей лесом огромной горы, толпу русских людей на перроне и среди них — молодая красивая женщина с веснушчатым мальчиком: это мы с матерью.
Меня могут спросить: неужели пленным японцам разрешали фотографировать? Ничего не могу на это ответить, я запомнил то, что запомнил. По тем наивным временам, может быть, пленным офицерам и разрешали иметь при себе фотографические аппараты и пользоваться ими…
По вечерам мы вместе с матерью искали на глобусе путь эскадры адмирала Рожественского вокруг Европы, Азии и Африки, — эскадры, спешившей на помощь Порт-Артуру.
Тогда и возник у меня проект объехать Азию с севера, — ведь на карте в отцовском кабинете я видел бледно-голубые морские просторы над полярной Сибирью! Почему там не может пройти наш флот?
Взобравшись на стул, я из Архангельска поехал дальше по карте, мимо Маточкина Шара, мимо Таймыра и других полуостровов. Я уже приближался к Чукотке: встав на цыпочки и вытянув палец, я уже объезжал ее, представляя себе, как идут одни за другим броненосцы, крейсеры и миноносцы. Грозные их очертания мне были известны по картинкам в журналах. Они шли среди льдов… И, совсем забыв о стуле, на котором стоял, я вдруг вместе с ним грохнулся на пол!
Прибежали перепуганные мать и няня. Меня подняли.
— Я к папе на войну ехал! — всхлипывая, отвечал я на их расспросы.
Мать тогда должна была скоро родить, и я запомнил, как она, против своего обыкновения, медлительно и осторожно движется по комнатам, запомнил ее фланелевые широкие платья, ее любимое место в качалке, в столовой. Я очень к ней ластился тогда, все целовал ее худощавую, с темным пятнышком на запястье руку, которой она ерошила мне волосы. Я знал, что похожее на маленькую пуговку пятнышко является сгустком крови, который образовался, когда мать меня рожала, и к этой находившейся под кожей пуговке у меня было какое-то особенное чувство. Наверное, с того времени беременные женщины мне кажутся по-особенному прелестны и вызывают у меня благоговение…
Отец вернулся так же внезапно, как исчез. Он или привез с собой первых раненых в Миасский завод, или только съездил за ранеными, чтобы оборудовать компанейскую больницу под лазарет Красного Креста. Старшим врачом этого лазарета он и был назначен.
Отец настрого запретил нам, детям, во время прогулок выходить из нашего сада на деревянные мостки, которые вели к главному, украшенному высокими колоннами подъезду больницы, где шел прием больных. Целесообразность этого запрещения ясна — среди больных были и заразные. Когда привезли раненых, это запрещение он подтвердил и мотивировал тем, что раненым нужен покой.
Только отец имел право через особую калитку выйти из сада на дощатые мостки и пройти этим кратчайшим путем в больницу, что он и проделывал по нескольку раз в день. Калитка затворялась на обычный, выструганный из дерева затвор, похожий на поплавок для рыбной ловли или на фигуру «чижика» для игры в «чижик».
Так как мне очень хотелось посмотреть на раненых — а они часто выходили посидеть на широкое каменное крыльцо под колоннами, — то, заметив, что няня чем-то отвлечена, я потихоньку скользнул через заветную калитку и поскорее прыгнул в глубокую канаву, по краям заросшую крапивой. Пригибаясь, чтобы не острекаться о нее, пробрался я к самому подъезду, вылез там из канавы и, припав к каменным потертым ступеням, рассматривал раненых, которые находились от меня не больше, чем в десяти шагах.
О чем они могли говорить тогда? О том, что было пережито во время сражений, о вестях из дому, о судьбах России, — ведь в то время за неудачной войной уже вырисовывались грозные и благодатные очертания народной революции…
Но я не запомнил их негромкого и непонятного разговора, пусть так и останется, как было. Они говорили между собой, а я погрузился в жадное рассматривание этих, вернувшихся с войны людей.
В них было необычно и интересно все: и то, что они в больничных халатах и серых шинелях внакидку, и то, что от них пахло по-больничному, и то, что у одних не хватало рук, а у других руки подвешены на бинтах, а у третьих не было ног, и возле них лежали костыли. Здесь были люди постарше, были совсем молодые, но у всех бритые головы, отпущены усы. У одного из раненых на шинели блестел на черно-оранжевой ленте Георгиевский крест. Конечно, это был главный герой, он стал предметом моего особенного внимания, — несомненно, это был герой!
Читать дальше