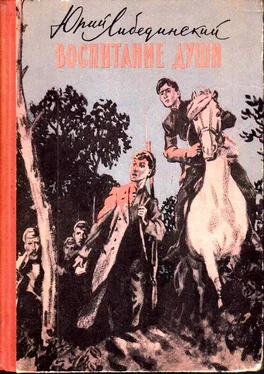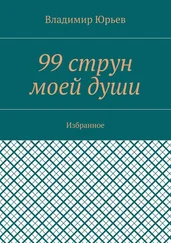Об одной из песен я сам напомнил отцу, спросив его однажды, играя на ковре в гостиной:
— Папа, кто такие буры?
Отец наклонился ко мне.
— Буры? — переспросил он, остановившись и ласково глядя на меня. — Ты что, песню о них слышал?
Я кивнул головой. Это была песня, и я слышал ее не раз — ее пели парни и девушки, проходя мимо забора. Могла ее петь и няня, и кучер Дмитрий — англо-бурская война незадолго до этого кончилась, вся Россия сочувствовала бурам.
— Трансва-аль, Трансва-аль, страна моя… Это хорошая песня. — И отец пропел мне эту песню и, как любят дети, несколько раз повторил ее.
Он рассказал о той войне за свободу, о которой пелось в песне. Рассказал о том, как свободолюбивые буры-крестьяне отбивали свои земли у захватчиков-англичан. Он показал мне картинку в каком-то старом журнале, где англичане, в тропических шлемах, скакали по широкой холмистой равнине, и буры, то лежа на земле, то с колена целились в них, и англичане падали, да, — ура! ура! — они падали со своих коней! Я вместе со всем нашим народом сочувствовал храбрым бурам, отстаивающим свою свободу, и воображал себя тем маленьким буром, который «на позиции в руках патроны нес…»
Отец как-то вдруг незаметно (наверное, это было, когда нас уложили спать) уехал. Мне объяснили, что он уехал на войну.
Отец, отец, возьми меня с собою на войну,
Я за свободу жертвую младую жизнь свою… —
зазвучало вдруг в душе моей.
Так слово «война» не случайно пришло ко мне в этой песне, вместе со словом «свобода». И с тех пор ужасное слово «война» и желанное слово «свобода» навсегда соседствуют в моем сознании.
Я понимал, что война идет где-то бесконечно далеко. По большой карте, что висела у отца в кабинете, я мог, водя пальцем и передвигая стул, на котором стоял (передвигать его приходилось раз шесть или семь), от кирпично-коричневой полосы Уральского хребта по ниточке Великого сибирского пути добраться до Дальнего Востока, — он находился на правом краю карты и на уровне моего лица. Я мог пальцем тронуть те места, где шли сражения, я знал очертания Корейского сапожка, над которым с одной стороны находился Владивосток, а с другой, ниже, — Дальний и Порт-Артур. Вокруг Порт-Артура простиралась синева морских просторов, и я, благо моя рука доставала до них, нарисовал на этих просторах морское сражение между русскими и японскими кораблями. И те и другие нарисованы были в виде кривых маленьких коробочек. Из трубочек, поставленных на них, шел густой дым. Все это должно было изображать «вероломное», как говорили взрослые, нападение на наш флот в Порт-Артуре. Одни коробочки горели красным пламенем, другие тонули…
От отца приходили письма, мать читала их вслух. Но в них ничего не говорилось о войне, отец еще ехал туда, — вот как было далеко до войны!
По вечерам мать читала вслух газеты, и послушать ее собирались в столовой и няня, и кучер Дмитрий, и Бабка. Как страшны были эти кровопролитные сражения, продолжавшиеся иногда по нескольку дней! Взрослые плакали, и это казалось мне страшнее всего.
А вскоре по всей России прокатилась песня:
Наверх вы, товарищи, все по местам!
Последний парад наступает.
В бою не сдается наш гордый «Варяг»…
Каждый ребенок по природе своей патриот. Я не представляю себе детей, которые в детстве не желали бы победы своему отечеству. Я пел «Варяга» и, конечно, не только желал победы нашим, но и воображал себя участником этих грядущих победоносных сражений. Но воображать — значило действовать. И я беспощадно рубил крапиву, а после ужина, когда сестру уже укладывали спать, я с бумагой и карандашами располагался возле мамы, в столовой. Мама читала журнал или книгу и подолгу, отрываясь от чтения, о чем-то думала, глядя на круглый огонек керосиновой лампы. А я расположившись на столе, с горящими от волнения ушами рисовал казаков верхом на конях, которые в моем изображении похожи были на каких-то четырехногих козявок; рисовал японцев, и тут же, на бумаге, казаки рубили японцев, а я самозабвенно и кровожадно рычал:
— Хы-ча-ча-ча, хы-ча…
Такое рисование войны у нас, детей, с тех пор и получило название «хычача, хыча».
Мимо станции Миасс должны были провезти пленных японцев. Мать вместе со знакомыми поехала на вокзал посмотреть на пленных неприятелей и взяла меня с собой.
Народ толпился на перроне, когда, отдуваясь и грохоча, по-тогдашнему низкорослый, но с высокой трубой паровоз подтащил вагоны. Это был обыкновенный пассажирский поезд, состоящий из желтых, синих и зеленых вагонов. В тамбурах стояли наши солдаты, держа в руках ружья с примкнутыми штыками, а в окнах вместо неких противных обезьян — такими до этого представлялись мне японцы — мы увидели хотя и очень чужие, но совсем человеческие, спокойно любопытствующие лица. Только кожа у них желтая и совсем не видно бород, а Россия тогда вся была бородатая.
Читать дальше