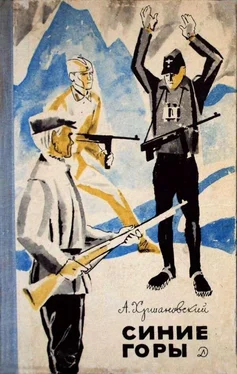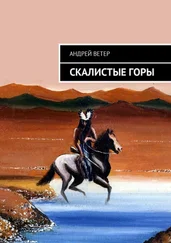Мать Виссариона приготовила для меня плетеную корзиночку с инжиром и грушами. Я знал: от подарка отказаться нельзя. Это тяжелая обида для хозяина.
В саду было темно. Свет уличного фонаря пробивался сквозь густые деревья и узорами разрисовывал землю.
Внизу, за садами, шумело море. В кустах звенели цикады. Поразительно, что их звон слышишь только в день приезда и когда уезжаешь.
Неслышными шагами подошел Виссарион-младший и молча сел рядом.
— Посоветоваться хочу, — наконец сказал он. — Зимой, конечно, буду в школу ходить. А летом, понимаешь, коровы, лошади в горы пойдут, траву кушать. Мне в колхозе предлагают работу: тоже в горы пойти. Заместителем чабана. Ты как думаешь?
— Что ж, если мать отпустит, надо соглашаться, — сказал я.
— Правильно, соглашусь… — Виссарион замолчал и тихонько прижался к моему боку. — Ты письмо напиши, — вдруг добавил он строго. — Как живешь… — а потом ласково и лукаво спросил: — Скучать без меня будешь, нет?..
Священное озеро
Вот уже два дня, как мы жили на Священном озере, потому что мой спутник, Николай Петрович Гром, не желал уходить отсюда.
В первый день нашего путешествия я каялся, что позволил себя уговорить и взял его с собой. Он отправился в горы в белых полотняных брюках и в сандалиях, обуреваемый желанием запечатлеть на своих этюдах альпийские луга, горные потоки и вечные снега.
Гром был совершенно беспомощным. Его сандалии скользили, как хорошо смазанные лыжи, и на подъемах и при спусках. Он падал с грохотом: в его деревянном этюднике тюбики с краской и кисти не были закреплены. Поднимаясь, художник прежде всего ощупывал этот этюдник, потом себя. Смущенно улыбаясь, он торопливо пускался догонять меня и обычно снова падал. Гром украдкой пил из каждого ручья, хотя я объяснил ему, что этого делать не следует.
В середине дня я уже подумывал, не время ли нам возвратиться, пока не поздно. Но Николай Петрович подкупал меня мужественным упорством, с которым переносил свои мучения.
Окончательно вопрос разрешился на первом ночлеге. Гром дотащился до места привала совершенно разбитый. Он сбросил с себя рюкзак и злополучный этюдник и сказал: «Ухх!..» Но не растянулся на земле, как это сделали бы многие на его месте, а, пошатываясь, осторожно подошел к бушующей реке и умылся ледяной водой. Потом с трудом разогнул спину, вернулся ко мне и хрипло проговорил:
— А хорошо, черт побери! Что я должен делать? Варить кашу? Собирать дрова?..
Я знал, что у него болят все мышцы, что каждое движение дается ему усилием воли. Но он не жаловался и собирался еще работать.
Было ясно: у него нет опыта и не хватает умения, но не характера.
Я освободил его от обязанностей по устройству ночлега и приготовления ужина. Он настолько устал, что засыпал в промежутках между двумя ложками каши.
У него не было спального мешка, я отдал ему свой и, пока он укладывался, достал запасные резиновые тапки и шерстяные носки. Завтра он их наденет вместо своих дурацких сандалий.
Художник заснул мгновенно. Я по опыту знал, что он видит во сне крутую каменистую тропу, быстро несущуюся воду горной реки.
Я устроился у костра и долго не спал. Черные лапы пихт протянулись над головой, и сквозь них просвечивали далекие звезды. Серые стволы буков, освещенные красноватым светом костра, будто придвинулись к нашему лагерю из темноты. По-ночному мягко шумела невидимая река, потрескивали сучья в костре, но было очень тихо. Воздух стал холоднее. Наступала ночь…
Мы спали крепко, вставали на рассвете. Под пихтами еще пряталась ночная темнота, долины и ущелья дремали в предутренней серой мгле, но уже голубело небо, на вершины падали первые лучи солнца и там все загоралось яркими красками: бело-розовые пятна снегов, коричневые скалы, зеленые луга, а ниже — красные стволы сосен и белые нити падающих потоков.
Николай не забывал и походных обязанностей. Иногда он вставал раньше меня, а однажды даже сварил какао — на крепком нарзане, потому что принял источник за обыкновенный родник. Какао имело своеобразный вкус, но для питья не годилось.
Впрочем, это была одна из его последних оплошностей. Он изменился, загорел и чувствовал себя в пути гораздо увереннее.
До выхода в горы мы были просто знакомыми, а теперь, поспав бок о бок, стали друзьями. Он не без ехидства называл меня горным козлом; а я его — жертвой искусства.
Что касается его брюк, то они перестали раздражать меня своим белым цветом, так как сплошь покрылись грязно-серыми пятнами.
Читать дальше