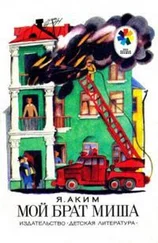— Пошли, — потянул меня Ворон, — а ты, Баранчик, останься. Вот тебе его вид! — Атаман, сорвав с меня знаменитый картуз с пупочкой, бросил его Баранчику.
Картуз ловко сел на его кудрявую голову. Притворщик поправил его одним движением и быстро изготовился сыграть подмену.
Лукаво поглядывая на меня, он чуть склонился на бочок и, сузив плечи, прищурил веки своих больших, округлых глаз. Я похолодел, видя, как он превращается в меня! Вот сейчас какой-то неизвестный парнишка станет Александром Берёзкиным… А кем же тогда буду я? Исчезну? Не буду самим собой?
«Нет-нет!» Во мне вдруг словно распрямилась какая-то пружина. Подбросила. И я очутился перед дежурным, оттолкнув Ворона.
— Я Берёзкин! Я!
— Ну и ладно, тебя ж не вызывают, чего орать-то? — удивился усач. — Шпану вон на угощенье зовут ради праздника, а тебя никто не приглашает. Вот как… Значит, хорош гусь… Ну и гогочи, тихо сиди!
Большущей ладонью он отсчитал беспризорников и, погрозив гримасничавшему Баранчику, шлёпнул его, толкнув к выходу.
Дверь заскрипела, заскрежетали замки, зазвенели ключи. Шаги смолкли.
Я остался один перед «волчком» — маленькой «гляделкой», темнеющей вверху двери.
Долго стоял я перед «волчком», боясь пошевелиться.
Всё ещё страшился, что мог уйти вместе с Вороном в какую-то лихую, дурную, ненастоящую жизнь.
Странные чувства испытывал я: и радость, что остался самим собой, и горечь, что стою в одиночестве.
Однако нет, я не один. Я это почувствовал всем существом: спиной, руками, ногами. Глаза ещё не видели, а слух уже различал присутствие в камере другого живого существа.
Осторожно, примериваясь, оно двигалось ко мне всё ближе и ближе.
По спине прошли мурашки. В страхе я попятился к двери. Из тёмного угла на меня смотрели внимательные глаза.
Присмотревшись, я различил крысу.
Видел я этих тварей немало. И в капканах, и на воле. Но такой огромной, страшной, облезлой, с хвостом, похожим на кнут, я не видывал.
Что она хочет от меня? Почему так пристально смотрит? Почему так тихо, но упорно приближается? Может быть в тюрьмах живут крысы-людоеды?
Похолодев, я не мог даже пискнуть, не то что позвать на помощь.
Я только пятился, всё отступая к двери, так же тихо, бесшумно, как крыса, невольно подражая ей.
И когда я прижался спиной к ледяной двери, крыса вдруг остановилась. И стала шарить крохи, оставшиеся от обеда беспризорников. Что они могли ей оставить? Однако оставили.
Она нашла корочку и стала не торопясь грызть её. Съев, снова уставилась на меня. Я понял: она требует и моей доли.
Поняв, я развёл руками. Нет у меня самого никакой доли в этой тюрьме — чем же я могу поделиться?
Крыса ждала долго-долго, вогнав меня в пот своим упорным взглядом. Так долго, что я несколько освоился и стал разговаривать с ней.
— Ну, честное слово, ничего нет. Забыли, понимаешь? Все меня забыли, друзья и недруги…
Вспомнилось, что крысы живут чуть ли не триста лет. Значит, много повидала она за свою жизнь. И наверное, привыкла, что люди, очутившись в неволе, разговаривают с ней. Крыса моргала понимающе.
И мне становилось всё интереснее объяснять ей, кто я таков, как здесь очутился.
Но в конце концов я, наверно, надоел ей, крыса слышала истории и похлеще. Вильнула хвостом и была такова. Исчезла в тёмной норе.
Там послышалась возня, писк, шорох. Крыса присоединилась к своей компании. Так я остался в канун праздника совсем один.
И так мне стало худо, так тоскливо, что я, никогда не плакавший, готов был разреветься вовсю…
Остановил меня солнечный зайчик. Откуда ни возьмись, заиграл, заюлил на потолке. Не мог же он возникнуть вдруг, сам по себе? Солнечные зайчики рождаются от стекла, стали, воды… Но только тогда, когда они в движении, иначе зайчики не играют.
А чаще всего зайчики появляются из рук мальчишек, когда они играют чем-нибудь отражающим солнце.
У Оли была стеклянная линза, которая рождала зайчиков, да не простых, а с разноцветными переливами.
Я присмотрелся и увидел Олиного зайчика! Только из её рук, от её зажигательного стёклышка мог появиться такой пушистый, с голубоватым свечением зайчик.
Почему он так пляшет, скачет, словно смеётся, радуется? Чему радоваться? Тому, что я в горе? В тюрьме? В одиночестве?
Нет, из Олиных рук не могло появиться ничего дурного, не мог явиться на свет и такой злой зайчик.
А если он радуется чему-то хорошему? Тому, что он знает и видит, а я ещё не различаю.
Читать дальше