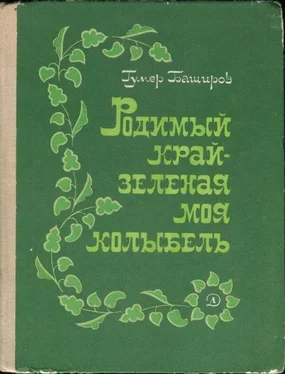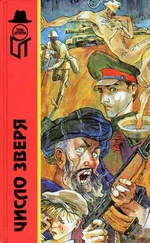Этот чекмень — первая одежа, которую мы шьем. Я прижал к прохладной стене указательный палец. Он вздулся от наперстка и дергает. Чего бы я не отдал, чтобы не видеть больше это пропахшее мышами, лежалое сукно!
Я вспомнил свою деревню, маму и всю нашу семью, товарищей, с которыми учился в медресе, и на глаза мне навернулись слезы.
Почему отец ни с того ни с сего задумал шитву меня обучать? Ни смысла я в этом не видел, ни интереса не чувствовал.
А часы всё тикали, качался маятник, словно дольки отсекал от ночи. Мне совсем не хотелось, чтоб светало, не хотелось вставать. Лежал бы так с закрытыми глазами и думал о своих, хотя и дома утешительного было мало.
Перед тем как мне уйти из деревни, отец и Сафа-абы долго пили чай и вели обо мне разговор.
— Не можем учить малого, — сказал отец, — не под силу! А большая была охота в люди обоих вывести. Не получилось. Куда уж нам в муллы лезть! Учить кое-как — толку не вижу. Вон Хамза сколько годов в медресе ходил, все одно в солдаты взяли. Пускай этот рукомеслу обучается.
Сафа-абы засетовал на тяжелые времена. Засуха, мол, была нынче, недород. Мол, в деревне Ямаширме́, куда он направлялся, не больно-то много нашьешь. Только, мол, чтоб уважить просьбу родичей, возьмет меня с собой. Хоть и накладно будет…
— Плату ты сам ему положишь…
— Сколь все получают, столь же будет и ему.
Что означает «сколь все», я узнал потом. Оказалось, что в расплату ученику за зиму полагается ситцевая рубаха или портки.
Но не о том была у меня забота. Я думал об отце. Он сильно поседел в последнее время. Его мучила одышка. Видно, не очень ладились дела у нас в доме, если меня оторвали от учения и в подручные отдали.
За разделявшей избу занавеской скрипнула люлька, раздался ребячий писк. Завозилась мать, коптилку зажгла. И тут же послышалось жадное чмоканье.
Вот мать начала ласково пошлепывать свое дитя, разговаривать с ним шепотком.
Как она маму мне напомнила! Мама тоже сестренку под утро кормила и приговаривала так же…
Вчера мы поздно пришли в этот дом и не успели оглядеться. Так сегодня я чуть не ахнул, когда за порог вышел. Вокруг было голым-голо, ни построек надворных, ни городьбы. Чего уж было удивляться пустому, можно сказать, чаю. Хозяйка расстелила на саке клетчатую скатерть, нарезала черствого, уже крошившегося хлеба, сахару положила кусков пять и, усевшись за старенький самовар, принялась усиленно потчевать нас:
— Ну-тка, ешьте! Ешьте что бог послал. Уж в такую пору тугую подошлись, господи! Даже чай нечем забелить. Козу осенью продали. А чекмень очень нужен самому. Обносился он вовсе.
Я украдкой посмотрел кругом. Занавеска была отдернута. Прицепленная к шестку, висела лубяная люлька. На подоконнике рядом с цветочным горшком стояла деревянная чаша да еще был чурбан, придвинутый к печке. Вот и все хозяйство.
Сафа-абы сидел, ссутулившись над скатертью, и старательно уминал хлеб. Он и меня подтолкнул незаметно: ешь, мол, а то хозяйка подумает, что гнушаемся.
На печи заворочался кто-то. Через некоторое время из-за запечья, протирая глаза, вышел мальчишка в изодранных штанах и рубашке. Мать дернула его за руку и усадила на саке за своей спиной, собой его заслонила.
— Старшенький наш, — объяснила она. — Пора бы в учение отдавать, да ни брюк у него нет, ни бешмета. Может, вот Сафа-абы из отцовой одежды брюки какие тебе смастерит, — добавила она, как бы обращаясь к сыну.
— Поглядим, — проговорил мастер после долгого молчания.
— А может, отец на бешметенок ему заработает, на подклад платье мое ношеное сгодилось бы. Ежели не скажете, что старое оно.
— Что ж, коли не ветхое…
Хозяйка все повертывалась боком к Сафе-абы и прикрывала платком лицо. Видно, смущала ее необходимость сидеть с посторонним мужчиной и разговором его занимать. Вдобавок он что-то помалкивал. Уж не из-за сухого ли хлеба насупился? Удрученная женщина опять придвигала в нашу сторону ломти хлеба и опять мягким говорком принималась рассказывать что-нибудь.
Она была намного моложе моей мамы, и лицо у нее было куда круглее. Однако то ли стыдливой сдержанностью, то ли милой добротой вроде походила на маму.
— На, паренек, съешь вот этот ломоть, — сказала хозяйка, словно угадав мои мысли. — Матери у тебя здесь нет, будешь стесняться — и вовсе останешься голодным.
Она с такой сердечностью протянула мне хлеб с куском сахара, что я уплел его с истинным удовольствием, как будто был он помазан маслом и медом.
Читать дальше