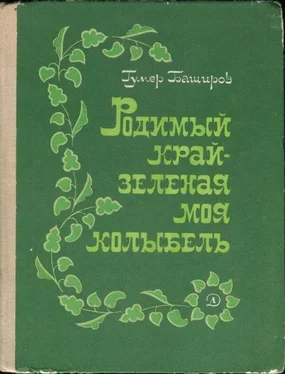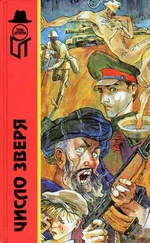— Чего тебе? — спрашивает она, не поднимая головы.
— Ничего, посижу с тобой…
И мы замолкаем. Апай вышивает тамбуром гроздь сирени на уголочке носового платка. Ее смуглые пальцы так быстры и ловки, что невозможно уследить за мелькающим в них тамбурным крючком. На распяленном платке появляется лиловый цветик. Апай разгибает согнутую спину и вздыхает.
— Плохо будет без тебя, — говорю я.
— Отчего же?
— Кто горницы уберет да нарядит?
— Не горюй. Вернется брат Хамза из солдатов, ожените его. Молодая невестка уберет.
И тут впервые за много дней я увидел улыбку на губах апай. Только глаза ее все равно остались печальными и что-то заморгали часто.
У меня защипало в глазах. Если бы апай вышла за Ахата, мы бы не разлучились с ней. Я бы каждый день к ним бегал, помогал, дрова бы колол…
— Апай, ты на меня не обижаешься?
— Вот еще! Что это ты выдумал?
— Если бы тогда, ночью, я не вскрикнул, ты бы ушла к Ахату-абы?
— Не знаю… Может, и ушла бы.
Кто-то прошел, посвистывая, мимо нашего дома. Звенькнули пустые ведра. Апай тяжело вздохнула:
— А может, и не ушла бы. Готовилась в огонь прыгнуть, бросилась в воду.
— Отца испугалась?
— Нет, не самого отца, а его проклятья. Как бы я на свете жила, ежели оно черной тучей над головой у меня висело?
— Отошел бы небось со временем.
— Ай-хай, не из тех он, кто слово свое рушит. Да уж что там… На роду, выходит, так написано у нас.
Пока мы разговаривали, цветиками лиловыми расцвел четвертый уголочек платка.
— Для джизни вышиваешь?
— Нет, — помедлив, сказала апай. — Для другого. Который помоложе.
— У тебя, значит, еще один джигит был? Кроме…
— А как же…
Вот тебе на! Неужто сразу двоих любила?!
— Ты этот платок особенно красиво вышила. Хоть бы ценили!
— Конечно, красиво… Джигит-то ведь тоже хорош. — Апай окинула меня долгим ласковым взглядом. — Похоже, что подарок оценить сумеет. К тому же после моего отъезда не будет у него апай, которая платки бы ему вышивала.
Кинуться бы мне тут апай на шею! Обнять бы ее, расцеловать! Но я постыдился слез, брызнувших из моих глаз, и молча кинулся вон из горницы.
Прошел положенный срок, и настал день, когда впервые должны были свидеться жених и невеста. Как принять зятя? Как уберечь и его и дочку от злокозней Ахата? К этому сводились все заботы старших.
— Уж он, зимогор, определенно подлость учинит, — говорил отец. — Или аркан поперек дороги протянет, или бревно под ноги лошадям кинет. Покалечится скотина, зять кувыркнется, вываляется в пыли… На весь род опозоримся!
Под вечер меня с Хакимджаном послали встречать молодого джизни.
— Как пойдете по улице, — наставляла мама, — по сторонам глядите. Чуть что заметили — сейчас же домой. Слышишь, сынок? Я тебе говорю! Убьет отец, ежели чего упустишь!
Но мы, кажется, тотчас забыли про это самое «чуть что», нас другое занимало: каков он из себя, мой джизни? Пригожий ли? Статный ли джигит или коротышка? Усатый или нет? Мои старшие джизни были рослые, усатые…
Мы бежали без передышки и остановились, когда околичные ворота были далеко позади. Глядим: со стороны леса по всей шири дороги огромным серым стогом катится-метется пыль! Немного погодя в сером вихре замельтешили лошадиные ноги, они так и взметывались, словно их с силой выкидывало вперед.
— Едут! Едут! — крикнул я во всю мочь и запрыгал на месте.
Прежде Хакимджан изводил меня молчаливостью. В последнее время он стал разговорчивей, но у него появилась новая причуда: что ему ни скажи, он в обратную гребет. И теперь подпер рукавом сопатый нос, головой качнул:
— Не они!
— Это почему же? Кто еще станет под вечер на паре разъезжать?
— Нет, не они! Разве жених без колокольцев приедет?
Однако, пока мы спорили, пароконный тарантас вырвался из окутавшей его пыли и подкатил прямо к нам. С тарантаса соскочил Сафа́-абы.
— Слезай, Набиулла! — сказал он второму седоку. — Шурьяк тебя встречать вышел! Пообчистимся малость!
Джизни оказался таким же безусым джигитом, что и мой Хамза-абы. Ростом и станом он был хоть куда и лицом пригож. Ой, если бы понравился он апай! Если бы она его полюбила!
— А, это и есть мой шурьяк? — улыбнулся Набиулла и протянул мне руку: — Ну, давай поздороваемся!
Руку-то я подал, но, сколько ни раскрывал рот, слова не мог выговорить. Джизни принялся пыль с себя стряхивать, чиститься, а сам все улыбался. Наверно, робел он, как и я, оттого и губы не мог подобрать.
Читать дальше