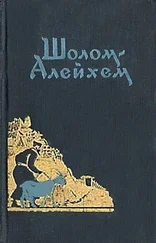— Тетя Гриппа, здравствуйте! Мы поможем!
Руками — о борт, коленки согнули — прыгать.
— Нельзя! Рыб спугнете, их и так в трубу тащит! — Она хватает с бетонного борта обыкновенные сухопутные грабли, бьет ими по воде и грозно кричит рыбам: — А ну отчаливай отсюда! — И когда стая, вильнув, отходит от трубы, мирно добавляет: — Нальем свежей водицы, такая у вас жизнь пойдет — хвост крючком!
Почему «крючком» — неизвестно.
— Зачем у них трава в тузике? — спрашивает Вяч.
— Дышать лучше, когда флора, — отвечает тетка Гриппа.
Вяч доверительно поворачивается к тощенькому пионеру в очках.
— Слушай, флора — это чего?
— Флора — не фауна, — отвечает тот.
— А фауна — чего? — спрашивает Колотыркин.
— А фауна — не флора.
— А по рогам хочешь? — спрашивает Вяч.
— А если я сам всегда перепутываю? — говорит пионер.
На этом конфликт исчерпывается. А тетка Гриппа, оказывается, еще не закончила фразу, она просто уходила стучать граблями.
— Флора — значит, все, что растет на земле и в воде, а фауна — всякая живность, всякая живая тварь…
— Это мы проходили, — небрежно бросает Колотыркин.
Он смотрит на девочку в голубом берете. Спрашивает:
— Вам рыбу за так дают?
Она прищуривает насмешливые голубые глаза:
— Пузанчик, не волнуйся! Нервные клетки не восстанавливаются.
Тетка Гриппа велит приезжим ребятам набрать воды, вылавливает рыб, осторожно опускает в их банки. Гости уезжают в свой Синий лагерь.
— Живут же люди! — говорит Вяч. — Двадцать шесть золотых рыб, тринадцать павушек и самого павлина отхватили!
Тетка Гриппа орудует метлой на дне.
— Хорошим людям не жалко, все перышки уцелеют.
Колотыркин поеживается. А она вылавливает двух прекрасных золотых рыб и опускает к нему в трехлитровую…
Последняя вода сошла. Тетка Гриппа скребет скребком позеленевшие бетонные стены, поливает из шланга.
— Тетя Гриппа, мы поможем!
— Не для чего вам пачкаться. Матери и так небось на вас не настираются. Отнесите лучше корма лебедям.
Тащут ведро. У Леся в кулаке еще печенье для Зины. Два черных лебедя враз поднимаются на кривые щегольские лапы и отправляются к кормушке.
Не видно лебедя Зины. Может, ей неохота вставать на старые усталые лапы? Снесем ей туда, где она отдыхает.
Они ищут ее повсюду: за кустами, в лебедином домике…
— Не ищите. Нет ее, — говорит тетка Гриппа.
— Да где ж она?
— Совсем нет. Умерла.
— Как… умерла?
Две пары глаз, растерянных, непонимающих, несогласных. Умерла? Вот ее кормушка, сходни, по которым она сходила в воду. А ее не будет никогда?
— Почему… почему умерла? — спрашивает потрясенный Лесь. Его рука все еще бережет печенье, чтоб не раскрошилось.
— Убили ее, — говорит тетка Гриппа. — Не было меня тут, на собрании сидела. Подлец нашелся. Верзила, бездельник. Камнем. Выманил на берег, чтоб наверняка, без промаха, с трех шагов. Тут один мне рассказал, видел все своими глазами. Возмущался сильно. Безобразие, говорит. А я его спрашиваю: «Что ж не вмешались? В сторонке стояли и глазели? А у вас, между прочим, палка с тяжелым набалдашником, могли бы хоть пригрозить хулигану!..» Не пожелал, видишь, себя беспокоить.
— Она же старая! Зачем? — крикнул Лесь, словно его ранил камень, кинутый в лебедя Зину.
Тетка Гриппа отвернулась.
— А ни за чем. Пустая душа. У кого душа пустая, тому все равно что губить. Жизнь потопчут, судьбу человеческую, не оглянутся. Где пройдут — трава не растет.
Лесь сжал кулак. Печенье превратилось в крошки. Бросил уткам. Не для кого беречь.
Колотыркин спросил:
— Рана была глубокая?
— Да ни раны, ни крови. Посторонись, — и лопатой выбросила на сушу черные водоросли.
Ушли от пруда. Нальют чистой воды, запустят рыб, запоет поющая лягушка, и утки будут становиться вверх хвостиками. Все будет опять. Только не будет лебедя Зины, сердитой, беспомощной, мудрой, доверчивой. Это я, Лесь, сделал, чтобы она доверяла людям. Я виноват. Я! Я!..
Среди ночи Лев-Лев проснулся и увидал: на подоконнике в лунном свете сидит Лесь, обняв колени.
— Ты почему не спишь, мальчик?
— Дед, можно убить, чтоб никакой раны?
— Ты бы лег, мальчик.
Лесь не пошевелился. Лунный свет блестел на его согнутых коленках и голых плечах. За окном серебрился тополь и таинственно сияли горы.
Дед проговорил тихо, будто подумал вслух:
— Можно без пули. Несправедливое слово может убить хорошего человека.
Лесь повернулся. Луна осветила макушку, засиял ершик волос, а лицо стало невидимо в темноте комнаты.
Читать дальше