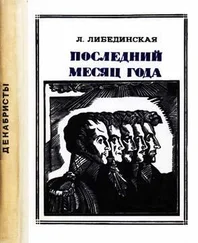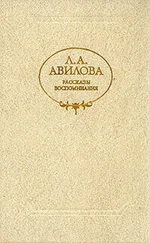Правда, нередко в статьях на литературные и политические темы Иван Евдокимович видел, что Саша излагает его мысли. Но сделано это было с таким блеском и так по-своему, что Иван Евдокимович только диву давался. Он ловил себя на том, что порою с невольным уважением взглядывает на стройного мальчика в его, еще по-детски пошитом, зеленоватом сюртучке, с рукавами, из которых на вершок торчали худые, с голубыми прожилками длинные руки. Ворот рубашки раскинут, галстука ему еще не завязывали, но над губой уже пробивался легкий пушок, и Саша, то и дело краснея, пощипывал его рукой. И в произношении его еще сохранилась детская наивность, он выговаривал слог «ла» между французским «la» и русским «ла». Иван Евдокимович любил наблюдать, как Саша, зная за собой этот недостаток, вдруг иногда затруднялся на этом слоге, останавливался, краснея, и, улыбаясь, глядел на него.
У самого Ивана Евдокимовича произношение французское было ужасно. Он нещадно коверкал иностранные слова, перевирал ударения. Иван Алексеевич его за это терпеть не мог, и если присутствовал на уроках, то с прибаутками да ужимками передразнивал учителя. Иван Евдокимович смущался, Саша бесился, обижался, – он любил своего учителя. Они предпочитали заниматься в маленьком кабинете, куда Иван Алексеевич почти никогда не заглядывал.
– Сегодня мы будем заниматься риторикой, – сказал Иван Евдокимович, словно не замечая того волнения, с каким Саша глядел на него. Он понимал, что мальчику хочется поговорить о заветной затертой тетради. Но служба службой, за уроки платили деньги, их надо честно отрабатывать.
– Что же сказать вам, друг мой, о риторике, – неумолимо продолжал Иван Евдокимович. – Это самая пустейшая и ненужная наука. Если господь кому не дал дара слова, того никакая наука не научит говорить красно…
Саша засмеялся.
– Иван Евдокимович, можно, я еще на один день оставлю у себя тетрадку? – И вдруг заговорщически, вполголоса прочел:
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы! –
и, не давая Ивану Евдокимовичу продолжить его изыскания по поводу пустейшей и ненужнейшей из наук, продолжал: – Какое счастье так написать! Мне одного жаль, почему это не я сочинил?
Иван Евдокимович был растроган, но его грубоватая натура не терпела восторженности. Он сощурился и продолжал говорить ровно и назидательно, однако Саша чувствовал, как сквозь назидательность пробивается волнение.
– Еще я должен рассказать вам сегодня о метафорах и хриях, – продолжал он, словно не слыша Сашиных слов. – Мы должны прочесть с вами «Образцовые сочинения»… Но не могу не признаться, что десять строк «Кавказского пленника» лучше всех десяти томов «Образцовых сочинений»… – И, не выдержав, он спросил живо и заинтересованно: – Так стихи гениального нашего Пушкина тронули ваше сердце?
– О да! – подхватил Саша. – Как я мечтаю увидеть его! – И, пригнувшись к учителю, снова прошептал отчетливо и горячо:
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы! –
– Дай бог, чтобы эти чувства созрели в вас и укрепились., – тихо проговорил Иван Евдокимович.
Глава пятнадцатая
ГОСУДАРЬ ПОМЕР В ТАГАНРОГЕ
День как день.
Иван Алексеевич журил Сашу, ворчал на Луизу Ивановну, а после обеда дурное расположение духа обрушил на несчастного камердинера. Никита Андреевич с утра чувствовал – барин не с той ноги встал, – потому сбегал в трактир и напился. Иван Алексеевич не преминул заметить, что старик навеселе.
Проходя по зале мимо открытой двери, которая вела в комнату отца, Саша на мгновенье задержался. Деревянная некрашеная кровать, покрытая белым одеялом, стояла у стены, между двух печей, чтобы теплее было. На ночной тумбе мемуары и лечебники, на двух небольших столах – книги, бронзовые подсвечники с зелеными шелковыми зонтиками.
Иван Алексеевич сидел в кресле перед одним из столиков.
– А ты, братец, уж закусывал бы черным хлебом с солью, чтобы не пахло от тебя этак… – услышал Саша.
Никита Андреевич пробормотал что-то и хотел выйти из комнаты. Но не успел он перешагнуть порог, как Иван Алексеевич остановил его и спросил спокойно и очень вежливо:
– Ты, кажется, голубчик, хотел что-то доложить мне?
– Я не докладывал ни слова, – хмуря свои кустистые брови, ответил камердинер.
– Это очень опасно, – со вздохом сочувствия и сожаления заметил Иван Алексеевич. – С этого начинается безумие…
Читать дальше