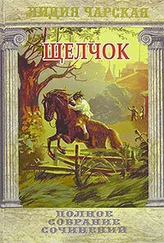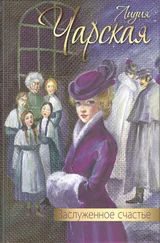Ее перенесли в полдень в последнюю палату и поставили на катафалк гроб, вышитый серебром и золотом, с зажженными перед ним с трех сторон свечами в тяжелых подсвечниках, принесенных из церкви. Всю комнату убрали коврами и пальмами из квартиры начальницы, превратив угрюмую лазаретную палату в зимний сад.
Я не отходила от княжны, впиваясь в лицо покойной сухими, жадными и скорбными глазами. Ужасное, невыразимое, никогда неиспытанное еще горе со страшною силою охватило меня.
«Ее нет, а ты, ты одинока теперь, – твердило мне что-то изнутри, – умерла, уснула навсегда твоя маленькая подруга и не с кем будет делить тебе здесь горе и радость…» «Прости, родная», – звучал между тем в моих ушах глухой, болезненно хриплый голос, полный невыразимой тоски и муки…
«Прости, родная»… Что значили эти вещие слова княжны? Предчувствовала ли она свой близкий конец и прощалась со своей бедной маленькой подружкой или же трогательно-виновато просила у нее прощения за невольно причиняемое ей горе – вечную разлуку с нею, умирающей?
И вдруг быстрая мысль пронизала мой мозг. Сон об эльфах оказался вещим… Душа Нины высоко поднялась над нами, и, прозрачная, чистая, как маленький эльф, утонула она в эфире бессмертия…
Мои глаза были все так же сухи и в то время, когда дрожащие от волнения голоса старших пропели «вечную память», когда кончилась панихида и отец Филимон, разжав восковые руки покойницы, положил в них образок св. Нины.
Чье-то рыдание, надрывающее душу, сухое и короткое, огласило комнату.
Это плакала Ирочка Трахтенберг, не успевшая проститься с княжной. Maman, с добрыми покрасневшими глазами, в черном платье и траурной наколке, поднялась на ступени катафалка и, склонившись над своей мертвой любимицей, разгладила ее волосы по обе стороны белого и ровного, как тесемочка, пробора. Крупные горячие слезы закапали на руки Нины, а губы Maman судорожно искривились, силясь удержать рыданья.
– Да, дети, это была золотая, благородная, честная душа! На редкость хорошая! – обратилась она к нам тихим, но внятным голосом.
«Чистая! Честная! Святая! И лежит здесь без дыхания и мыслей, а мы, ничем не отличающиеся, шаловливые и капризные, будем жить, дышать, радоваться!..» – сверлило мой мозг, и каким-то озлоблением охватило мою детскую душу.
Четыре дня стояла покойница в ожидании приезда отца, которого уже известили по телеграфу о смерти Нины.
На пятый день он приехал во время панихиды, когда мы меньше всего ожидали его появления.
Он вошел быстро, внезапно, еще молодой и чрезвычайно красивый высокий брюнет в генеральской форме. Он вошел мертвенно-бледный, с судорожно подергивающимися губами под черной полоской тонких длинных усов и прямо направился к гробу.
Не решаюсь описать того страшного, мрачного отчаяния, которое я увидела на этом мужественном лице. Я помню только не то крик, не то стон, вырвавшийся из груди отца при виде мертвой дочери… Но это было до того мучительно, что мои нервы не выдержали и я зарыдала в ответ на этот крик, зарыдала теми благотворными отчаянными рыданиями, которые смягчают несколько тяжесть горя. А он все стоял, схватившись обеими руками за край гроба и впиваясь мрачно горевшими глазами в лицо своего единственного, навеки потерянного ребенка…
На другой день ее хоронили. Отпевание было в нашей церкви, где столько раз горячо молилась религиозная девочка.
Весна, так страстно любимая Ниной, хотела, казалось, приласкать в последний день пребывания на земле маленькую покойницу. Луч солнца скользнул по восковому личику и, ударясь о золотой венчик на лбу умершей, разбился на сотню ярких искр…
Одна за другой подходили институтки ко гробу, поднимались по обитым черным сукном траурным ступеням катафалка и с молитвенным благоговением прикладывались к прозрачной ручке усопшей. Голоса старших едва звучали, задавленные рыданьями…
В этой безысходной тоске всей тесно сплотившейся институтской семьи видна была безграничная привязанность к маленькой княжне, безвременно вырванной от нас жестокою смертью… Да, все, все любили эту милую девочку!..
Ее похоронили в Новодевичьем монастыре – так далеко от родины, куда она так стремилась последние дни!
Все время отпевания отец Нины не выпускал края гроба, не отрывал глаз от потемневшего мертвого личика. Когда гроб вынесли, он шел до монастыря не сзади, а сбоку белого катафалка с княжеской короной.
Прохожие при виде печальной процессии, маленького гробика, скрытого под массою венков, целой колонны институток, следовавших за гробом, снимали шапки, истово крестились и провожали нас умиленными глазами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу