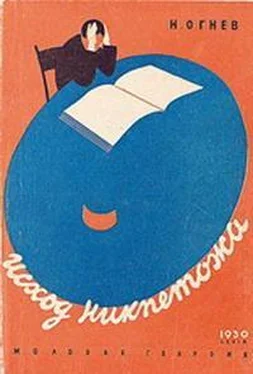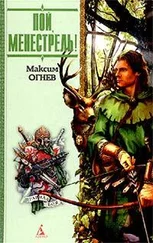— Ну вот... теперь... ответьте: можно из этого заключить... из этих стихов, что Витенька... сам...
— А не все ли это равно, — вырвалось у меня. Но я сейчас же пожалел об этом. Она так и впилась в меня светлыми, почти белыми глазами, придвинулась ко мне близко-близко и едва выдохнула:
— Как все равно. Вы простите, об’ясните, что вы понимаете под этим: все равно? Но честно, честно отвечайте; вас... кровь матери спрашивает...
И тут мне показалось, что говорю я не с человеком; что это какое то другое существо — может, безумное,— хочет меня загипнотизировать: так все это было непохоже на то, что нас окружает и чем мы живем. В голове кувыркались и стремительно неслись какие-то обрывки мысли:
— Из чего сделана занавеска?.. — Так вот какая аристократия бывает! — Что же ей ответить?.. Ляпнуть разве, что он покончил с собой и что стихи только это и могут подтверждать, больше ничего. — Какие у ней страшные глаза. А почему ей это важно?..
Тогда она встала, пошла куда-то в угол, и словно в ответ на мои мысли сказала:
— А, я теперь поняла. Конечно, для вас все равно, поэтому вы и спросили. Я и забыла, что вы из новых... Этот, как его... комсомол...
— Мне вас трудно понять, гражданка княгиня, — сказал я и встал. — Вы все-таки об’ясните поточней, чего вы от меня хотите? Не забывайте, что мы — классовые враги.
— Да, так. Витенька тоже хотел быть комсомолом. Ну и хорошо, для вас хорошо, что он не сделался комсомолом. Иначе... я бы вас прокляла... как убийцу... страшным материнским проклятьем... но вам и это ничего не говорит. Попробую, об'яснить. Видите, почему мне не все равно. Я— мать Виктора. Если предположить, что с ним был несчастный случай, то мне остается только мое страшное, почти невыносимое, сжигающее до пепла, горе.
Тут она закашлялась и кашляла очень долго, словно хотела меня разжалобить. И вообще, тут я овладел собой и начал как-то со стороны смотреть на нее и на ее слова: мне даже показалось, что это похоже на театр: я — зритель, а она очень искусно играет, а сама думает о другом.
— Ну вот, — продолжала она, кончив кашлять. — А если — нет... если он... сам, то кроме моего материнского горя, я должна принять в себя еще и его необ’ятное, нечеловеческое горе, — то самое горе, которое заставило его разбить свою юную жизнь. И это помимо того, что я должна перенести тягчайшее оскорбление, которое он мне нанес, как матери, как женщине, как просто близкому человеку, наконец. Почему он не пришел ко мне... не сказал... Потому что я — княгиня? А он забыл, что я народу отдала лучшие свои годы? Ох нет, Витенька!—вскричала она вдруг, схватив одной рукой другую, словно хотела ее сломать. — Нет, Витенька! Это княжество — крест, который послал нам с тобой господь бог... за грехи отцов наших. Я тебе, кроме того, и мама! Разве ты не помнишь, как маленьким приходил ко мне и сознавался во всех шалостях? А что тебе говорила мама? Разве она тебя наказывала. Разве она тебе сказала когда-нибудь дурное слово? Почему же ты теперь, теперь не пришел ко мне, не сказал, не спросил... ведь я бы тебе все об’яснила...
Я решил, что еще немного и она бросится на меня. У меня уже давно во всю колотилось сердце. Я незаметно вышел за дверь и прислушался: что-то стукнуло. Я опять заглянул в дверь. Она лежала лицом вниз на постели и бормотала:
— Витенька, сыночек... ну, разве так можно... разве так можно, Витенька!
С тяжелым чувством я шел по улице — и люди казались странными, новыми, радостными.
На углу стояла девчурка лет одиннадцати в рваной куцавейке и в пионерском галстуке. Она была без калош и один башмак был подвязан веревкой: должно быть, подошва отставала. Был сильный мороз и девочка все время подпрыгивала, стараясь согреться.
— Что, холодно? — спросил я.
— Двенадцать градусов по Реамюру, — сердито ответила девочка, не глядя на меня.
— Нет, тебе-то — холодно? — спросил я еще раз.
— А тебе какое дело? — ответила девочка. — Чего ты привязываешься. Пошел.
— Да я не понимаю, чего ты торчишь: ведь пальцы отморозишь. Я, как вожатый, должен тебя предупредить.
— Кабы ты был вожатый, то не привязывался бы ни с того, ни с сего. Связь держать мешаешь.
Девочка взмахнула платком, и на другом конце переулка я заметил другой платок, мотнувшийся в сером туманном воздухе.
Мне стало неловко, и я пошел домой. Но тяжелое чувство, появившееся после свидания с матерью Шаховского, прошло, и мне показалось смешно, что я хожу и собираю впечатления, словно репортер.
29 декабря.
Ломаю себе голову — и никак не могу понять сегодняшнюю историю. Я ходил к Никпетожу и имел с ним длинный разговор. Но этот разговор придется записать особо, когда будет время, а сейчас нужно дать себе отчет в том, что произошло.
Читать дальше