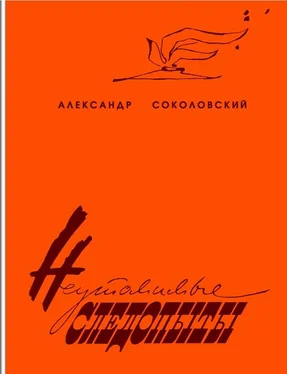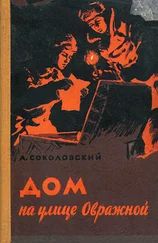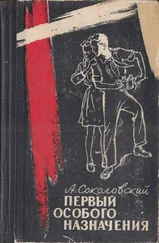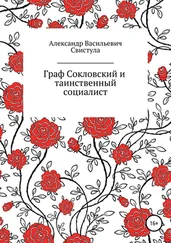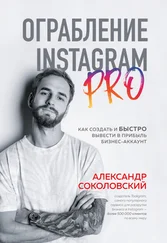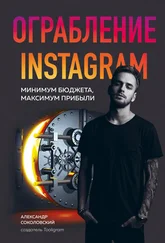— Ну вот, пожалуй, и все, — произнес Василий Степанович, заканчивая свой рассказ о том, как в группу Павла Вересова пробрался предатель.
— А записка? — спросил Женька. — Кто написал записку? Ту, самую последнюю?
— Комиссар отряда коммунист Громов. Это его почерк.
— Я знаю! — воскликнул я. — Он писал, а товарищи отбивались от гитлеровцев… А потом он успел зарыть в землю гильзу со всеми бумагами. И погиб…
— Да, наверно, так оно и было. Герои погибли. А Шкворнев остался жить. Но правда, она всегда отыщет верную дорогу, как ее ни прячь.
И вот Левашов умолк, и я, словно очнувшись, огляделся по сторонам. Все так же, подперев щеку кулаком, рядом со мной сидел Женька. Напротив Дарья Григорьевна. А у края стола, склонившись над чашкой остывшего чая, примостился Иван Кузьмич.
— Я слышал, вы хотите устроить у себя в школе музей партизанской славы, — произнес Левашов, помолчав. — Так не думайте, будто я забыл о своем обещании. Фотокопии с документов привезу вам на днях.
И вот тут-то я узнал впервые о Женькином решении.
— Нет, Василий Степанович, — проговорил он, выпрямившись на стуле. — Пусть лучше музей партизанской славы будет здесь, в Зареченске. Ведь они… Ведь партизаны… Павел Вересов, Яков Громов, Платон Рузаев… Все они сражались с фашистами и погибли геройской смертью в здешних местах. Так пускай и музей будет здесь…
— Женька! — воскликнул я. — А как же мы? Разве мы уедем с пустыми руками?
— Все это оставим здесь ребятам… — Женька засмеялся. — Да мы и не уедем с пустыми руками. У нас есть наши коллекции. — Он подмигнул мне. — Ванесса уртикае…
Но мне было не до смеха. Всегда во всем я соглашался с моим лучшим другом Женькой Вострецовым, а тут ни за что не мог с ним согласиться. И неожиданно ко мне явилась помощь. Она подоспела с того края стола, где сидел, упершись в чашку бородкой, Иван Кузьмич.
— А я думаю, что ты, Женя, на этот раз не прав. Чем больше будет у нас таких вот музеев, тем лучше. Чем больше людей — в городах ли, в селах, в клубах, в красных уголках, да и в школах в первую очередь — узнают, какие герои в нашей стране, за что они дрались, за что отдавали жизни, тем будет полезнее. — И как это часто бывало, Иван Кузьмич повернулся к тете Даше. — Вы со мной согласны, Дарья Григорьевна?
— Совершенно согласна, Иван Кузьмич, — энергично тряхнув головой, отозвалась тетя Даша.
— Как же так два музея?.. — растерянно пробормотал Женька. Видно, эта простая мысль ни разу не пришла ему в голову.
— Да очень просто два! — рассмеялся Левашов. — Абсолютно правильно вы, Иван Кузьмич, заметили. Два музея лучше, чем один. А если таких музеев будет три, пять, десять, то и совсем хорошо! И фотокопии я вышлю вам в двух экземплярах.
Василий Степанович поднялся и начал прощаться. Ему пора было уходить.
Ох и стыдил же я Женьку в этот вечер! Да и как же ему, в самом деле, было не стыдно решать одному за нас двоих? Разве мы не вместе расшифровывали таинственную бумагу Ивана Кузьмича, ломали головы над загадочными значками? Разве Женька один собирал по всему Зареченску бечевки, чтобы набрать из них клубок больше ста метров?..
Я корил моего друга, а он молчал. Потом вдруг наклонил голову и посмотрел на меня чуть лукаво. Когда он вот так смотрел, я знал уже, что Женька чувствует себя виноватым, и переставал на него сердиться.
— Ладно, Серега… Я, конечно, не прав. Упрямиться не стану…
И я тоже не стал упрямиться и делать вид, что дуюсь на Вострецова. Я терпеть не мог, когда мы с ним ссорились. И, рассмеявшись, мы побежали, пока еще не зашло солнце, к развалинам электростанции, где — я не сомневался в этом — могли застать ребят и рассказать им все, что услышали сегодня от Василия Степановича.
Потом мы не встречали его целую неделю. И он не подавал о себе никаких вестей. А между тем неумолимо приближался день нашего отъезда из Зареченска. Мы уже начали укладывать наш огромнейший чемоданище. И хотя всю леску, поплавки, грузила, крючки, фонарик мы оставляли в подарок нашим новым друзьям, вещей у нас не убавилось, а даже прибавилось. Мы увозили из Зареченска честно поделенные пополам экспонаты будущего нашего музея, среди которых были и помятый автоматный диск, и ржавый штык от немецкой винтовки…
Увозили мы с собой и партизанский радиоприемник, сделанный Игорем, и настоящую, только разряженную гранату-лимонку — подарок копалинских пионеров. Не забыли мы и коллекцию бабочек — целых шестнадцать картонок, пестревших семелами, зубчатками, серпокрылками… Были тут и бархатисто-черный «адмирал», и желтый махаон, и бурый «воловий глаз»… Но посреди всей разноцветной пестроты самое почетное место, конечно, занимал громадный бражник «мертвая голова».
Читать дальше