Если взобраться на пожарную каланчу и поглядеть на город сверху, то напоминал он колбасу, южный конец которой упирался в берег речки Дзирнаву, а северный тянулся через железнодорожное полотно до самого кладбища и немного огибал его. От главной улицы, как кости от рыбьего позвоночника, расходились по обе стороны улочки и переулки, порою превращавшиеся в узкие тропинки.
На той стороне города, где заходит солнце, находилась известная, полюбившаяся всем гимназисткам и некоторым романтично настроенным гимназистам черемуховая долина. Взрослые считали ее просто оврагом. Но это, по нашему мнению, было несправедливо. Поэтому ребята называли овраг Даугавой, а село, расположенное на противоположной стороне, — Задвиньем. Там жил один из наших одноклассников — Брунис, худощавый парень в очках, тонкий как жердь и умный как профессор.

В Гулбене он и в самом деле приехал из настоящего Задвинья [4] Задвинье — район Риги, расположенный на противоположном от центральной части города берегу Даугавы (Западной Двины).
. В Риге его отцу в поисках работы частенько приходилось стоять в очереди на какой-то улице Торню, где находилась биржа труда. Потом его терпение лопнуло, и он перебрался в наш город, хотя и здесь был такой же ад, как и повсюду в буржуазной Латвии.
На другой стороне Гулбене, там, где солнце восходит, простиралось большое поле, на нем мы гоняли мяч и устраивали парады нашего прославленного полка. Правда, городское начальство называло это поле иначе — аэродром. Но на этом аэродроме производили посадку и взлет только вороны и огромные стаи галок, которые голосили значительно громче, чем самые настырные торговки на гулбенском базаре.
Сильный шум создавали и резкие, частые гудки паровозов, потому что тут же, за углом парка, располагалась железнодорожная «больница» — депо. «Паровики» — как называли паровозы наши отцы — привозили ремонтировать в Гулбене со всех концов Латвии: из городов Мадона, Лубана, Балвы, а узкоколейные «кукушки» — из Алуксне и даже из Валки.
Ранним утром городские улицы заполняли рабочие в черной одежде. Они спешили на станцию, в закопченные, похожие на угольные горы корпуса ремонтных мастерских, которые, проглотив угрюмые толпы, целый день рычали и громыхали. Вечером из депо выходили до предела уставшие, измотанные люди; они, казалось, были переломаны пополам. Покрытые угольной пылью, прокопченные дымом, будто побывав в аду, рабочие снова заполняли городские улочки.
Золотой порой для нас, мальчишек, были весна и лето, когда не нужно заботиться об одежде. Если только есть какие-нибудь бурые или сероватые трусики, можно целыми днями слоняться даже по Рижской улице, и никому в голову не приходила мысль, что он непристойно одет. Иногда только долговязая барышня Берга, презрительно сморщив нос, прошипит:
— Дикари!

Единственным несчастьем, бедствием, которое могло обрушиться на каждого из нас, было то, что нас отдавали в пастухи к какому-нибудь толстопузому кулаку. В таком случае делай что хочешь — плачь или ной, — но прощайся с городской жизнью на пять-шесть месяцев. Этих несчастных мы у себя в полку считали погибшими и во время парадов, когда назывались их имена, торжественно произносили:
— Стал жертвой домашних животных!
Поэтому часто наши ряды бывали поредевшими, и во время самых жарких боев у нас иногда не хватало стрелков. Тогда в городе хозяйничали хвастливые и заносчивые белые, потому что им такая участь не угрожала.
Сейчас я уже точно не помню, почему нас называли черными. Но, должно быть, в этом были повинны наши отцы. Из их поношенной одежды матери шили нам штаны и пиджачки. Поэтому и ребята и девочки лет до пятнадцати-шестнадцати носили черную одежду. Конечно, и лица наши порою были чернее, чем у детей какого-нибудь булочника или мясника. Вдобавок ко всему, гулбенская «знать» всех железнодорожников называла черными, будь то взрослый или малыш, — черный, и все.
К белым относились отпрыски господ и их прихлебателей — начиная с сынка городского головы и кончая лохматой дочерью парикмахера. Таким образом, весь наш город был разделен на два больших враждующих лагеря, которые постоянно находились в состоянии войны. Был еще и третий лагерь — так называемые «мягкие». Они обычно поддерживали тех, кто посильнее, или же тех, кто был повыгоднее для них. Самыми типичными представителями «мягких» были четыре сынка красильщика и дети хромого сапожника, а также плутоватый Папуас, сынишка дворничихи, той, что убирала базарную площадь. Папуас одно время пребывал в рядах черных. Этим ребятам нельзя было ничего доверить. За три конфеты или два сантима они готовы были удавиться, выболтать белым наши самые важные военные и экономические секреты. Секреты белых они тоже не умели держать за зубами. Поэтому мы иногда пользовались услугами «мягких».
Читать дальше
![Янис Плотниек Черные и белые [Повесть] обложка книги](/books/397816/yanis-plotniek-chernye-i-belye-povest-cover.webp)






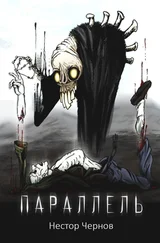

![Алексей Кузовлев - «Черно-белые дни» - Вся правда о группе [AMATORY]](/books/420457/aleksej-kuzovlev-cherno-thumb.webp)



