— В рубашке парень родился. — И посмотрел с грустью Петьке в глаза: — Знаешь ли ты, что было б, пойди этот осколок чуть ниже?
Потом офицеры забрали все пули и уехали на полигон, где, оказывается, оставалось отделение охраны. Вечером, вернувшись, танкисты собрали в красном уголке всех, кто был свободен.
Майор говорил про горечь утраты, виноватил и взрослых, и пацанов.
— Боевая граната на огневом рубеже осталась случайно, — хмурясь и не выпуская из рук папиросы, говорил он. — Мы найдем виновного, крепко накажем. Но на стрельбище могут оказаться и неразорвавшиеся снаряды. Ходить там категорически запрещено. Даже солдатам! А гражданскому населению к месту стрельб и приближаться нельзя. Не зря же строгий указатель там поставлен…
И еще сказал усталый майор:
— Потерпите, товарищи… Отдадим мы вам те места. Вот закончим свои дела, саперы с миноискателями проверят всю территорию, и будете собирать там ягоды, охотиться, дрова заготавливать…
Закурив, мужики окружили танкиста, заговорили про фронт. Майор сказал, что победа теперь уже совсем близко. На западе наши везде наступают и бои идут не где-нибудь, а в Германии, в самом Берлине…
А на другой день военный студебеккер привез из Узловой Митяя в красном гробу. В квартиру Будыкиных сходили почти все с полустанка. Петька на всю жизнь запомнил спокойное, совсем взрослое лицо Митяя с крапинами ожогов, свечи у изголовья гроба, закрытое зеркало, тихо плачущую тетку Настасью, неотрывно глядящую в лицо сына, младшую сестру Митяя Наташку…
Вспоминая все это, чувствуя в голове шум и боль, Петька еще сильнее думал над одним вопросом, на который, знал он, теперь никто уже не сможет ответить. Еще тогда, глядя вслед уходящей мотриссе, он вдруг подумал о той секунде, когда, наверно, смог бы удержать смерть, смог бы спасти Митяя, как тот спас всех. Ведь была же эта секунда, была!
И Петька терзался оттого, что не он, а всегда тугодумный Митяй понял ее… Но зачем он не бросил гранату там же, не побежал, как все?.. Может, подумал, что она не страшная вовсе? Что не будет больно потом?..
Нет, Митяй же знал, что в руке у него не поджиг — граната. Как же он сумел не бросить ее, как догадался накрыть?..
Далекий, знакомый голос издалека пробился сквозь Петькины думы. Он тряхнул головой и увидел впереди Зинку, тоже отставшую от людей.
— Пе-еть!.. Пе-етька-а! — тянула она. — Пойдем к Будыкиным. Тетка Настасья всех ребят звала. Она рисову кашу будет давать! С конфетками. И блины…
Петька остановился. Долгим, непонимающим взглядом посмотрел на Зинку, скрипнул зубами и, махнув рукой, напрямую через покос деда Орлова пошел домой. Плечи его, обтянутые той же тужуркой, рассеченной осколком, вздрагивали, будто пытались вырваться из одежки.
…Воротясь с поминок, мать увидела Петьку на кровати. Окликнула его, потом тихонько подошла и заглянула в лицо.
Сжавшись в комочек, Петька спал, неровно дыша. Лицо его густо усыпали капли пота… Петька зябко вздрагивал, сжимался, пряча руки в ногах и, что-то вскрикивая, протяжно стонал.

Сгибаясь под связками сена, по линии к полустанку шли со стороны выемки двое Орловых — дед с Шуркой. Шли они хорошим, по-настоящему майским днем, но Шурка был хмурый. Перебрасывая с плеча на плечо веревку от вязанки, он поглядывал на затылок шагавшего впереди деда и сердито думал: «Устроил вот канитель… Колхозу воз сена отдал, а теперь самим побираться приходится. По старым остожьям Белянке остатки сшибаем. Да разве ж в них сено? Гниль, чернота с плесенью. И за этим вон аж куда ходить надо…»
Но, так вот бурча, усталый Шурка окраинкой души и понимал, и оправдывал деда. Он помнил, как председатель Фрол Чеботаров рассказывал про беду на колхозной ферме. Осенью, в самую сушь, после первых заморозков, от паровозной искры или еще от чего, полыхнул пал и покатился по залинейной равнине с колхозным покосом. Свечечками вспыхивали на нем стожки. И много меньше половины припасенного сена удалось спасти. Вот и пришлось по весне ходить председателю по домам, просить помощи. А то коровы с голодухи станут падать. Тогда и отвез дед воз листового, ополовинив остаток стожка возле стайки.
Бабка было запричитала о горькой судьбе единственной кормилицы Белянки, но дед нахмурился:
— Ну-ка, старая, кончь!..
Сердясь, он никогда не говорил лишнего. И бабка больше не причитала, только вздыхала украдкой.
Читать дальше
![Борис Машук Горькие шанежки [Рассказы] обложка книги](/books/393095/boris-mashuk-gorkie-shanezhki-rasskazy-cover.webp)


![Борис Никольский - Солдатская школа [Рассказы]](/books/32929/boris-nikolskij-soldatskaya-shkola-rasskazy-thumb.webp)

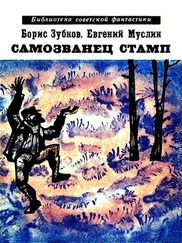

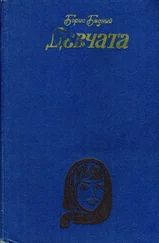

![Борис Блантер - Схватка со злом [Рассказы]](/books/392071/boris-blanter-shvatka-so-zlom-rasskazy-thumb.webp)
![Борис Никольский - Пароль XX века [Рассказы]](/books/426599/boris-nikolskij-parol-xx-veka-rasskazy-thumb.webp)


