В какой-то степени это напоминает ситуацию с тем немецким социалистом, которого осудили на днях за антивоенную брошюру. Как его?… Либкнехт. Ну да, Вильгельм Либкнехт.
О нем много писали в газетах. Беднягу приговорили к тюремному заключению, но он как будто даже остался доволен. Заявил, что судебная расправа - отличная пропаганда его идей. Брошюра, которую в иных обстоятельствах мало кто заметил бы, благодаря судебному разбирательству оказалась зачитанной до дыр. Что ж, в рассуждениях социалиста есть несомненная, хоть и печальная правда. На миру и смерть красна. Общественное разбирательство лучше пропагандирует прививки, чем губернаторские приказы. Заявления правительственных чиновников по поводу Малковалы становятся с каждым разом все менее доказательными и более беспомощными. Не сегодня-завтра мировое общественное мнение окончательно опрокинет непрочную стену официальных аргументов, и правительству придется уступить. А пока благодаря непрерывной «войне» люди всё больше узнают о вакцине, о ее благодетельном действии, а заодно о беззаконных действиях властей…
Институтский швейцар хмуро посмотрел на господина, который вроде бы собрался уходить, но остановился посреди вестибюля и теперь оживленно беседует… сам с собой. Беспокойная тут служба: никогда не знаешь, что в следующую минуту выкинут эти ученые…
Да, поддержка Пастеровского института была бы сейчас решающим ударом. Но и без нее… Только бы хватило средств продержаться до победы. В Лондоне легче. Экономная, рассчитанная до пенса жизнь в маленькой гостинице Сейнт-Эрмин с ее дешевыми комнатами и обедами позволяла протянуть оставшиеся деньги еще месяца на два, на три. Но поездка в Берлин и Париж серьезно подорвала его финансы. Входить в долги? В Европе и Индии нашлось бы, очевидно, немало людей, по доброте душевной или из тщеславия готовых ссудить деньгами известного ученого. Но лучше уж продавать свои сорочки. Так делал зоолог Александр Ковалевский, когда в Италии ему нечем было платить рыбакам, которые добывали для него морских животных. Ну что ж, бедность, очевидно, тоже имеет свои блага. Недаром же богач Лили завидует бедняку Хавкину!
Кто-то снаружи приоткрыл входную дверь, и порыв холодного ветра швырнул на каменные плиты вестибюля пригоршню желтых сморщенных листьев. Вместе с ветром и листьями в вестибюль внесло изящно одетого господина с русой, коротко подстриженной бородкой. Господин снял шляпу, любовно пригладил редковатые светлые волосы и поискал глазами, к кому бы обратиться. Из двух возможных собеседников - швейцара и Хавкина - избрал последнего.
- Не откажите в любезности… Я приезжий, приглашен профессором Мечниковым…
В полутьме блеснули светлые, очень подвижные глаза. Голос был легкий, певучий. Французы так не говорят. Можно, конечно, объяснить этому русобородому иностранцу, что кабинет заместителя директора помещается на втором этаже в конце коридора направо; что профессор, как всегда в половине первого, покинул свою комнату, чтобы выпить традиционный стакан горячего молока в обществе мосье Ру. Можно добавить также, что для обоих руководителей института дневной перерыв - любимое время интимных бесед, так что завтрак затягивается иногда на пятнадцать - двадцать минут. Но зачем такие подробности постороннему человеку? Лучше просто проводить его. Кстати, надо передать Илье Ильичу письмо от одного из его лондонских поклонников - профессора Райта. Вот повод вернуться назад, положить письмо на стол и удалиться, не вступая в лишние разговоры.
Приезжий оказался человеком на редкость общительным. Тут же, пока шли по лестнице и коридору, сообщил, что приехал в Париж по торговому делу. Обрадовался:
- И вы из России? Отлично! Так давайте на родное, так сказать, исконное наречие перейдем. Чего нам по-французски выламываться.
Землевладелец. Имение в Бессарабии. Намекнул - не маленькое. В Париж собирался давно, но… хозяйство. Сами знаете, то да се. Вежливенько осведомился, какого чина-звания собеседник. Закивал сочувственно.
Ну да, ну да, наука очень доброе дело. Хотя, конечно, становой хребет, так сказать, основа - это они, мученики и труженики земли-матушки.
Манеры спутника, его многословие, заискивающие и в то же время самоуверенные интонации чем-то беспокоили, раздражали. Певучая речь казалась знакомой, но, сколько Хавкин ни всматривался в лицо моложавого помещика со слишком блестящими, будто эмалированными глазами, оно ничего ему не напоминало.
Читать дальше




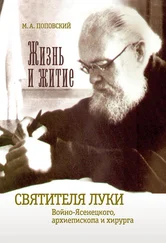
![Марк Поповский - «Мы — там и здесь» [Разговоры с российскими эмигрантами в Америке]](/books/432316/mark-popovskij-my-tam-i-zdes-razgovory-s-ros-thumb.webp)


