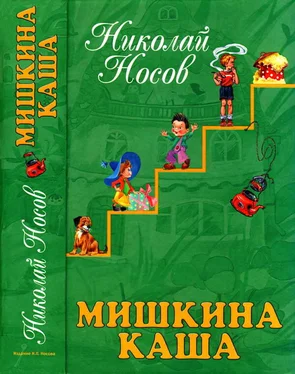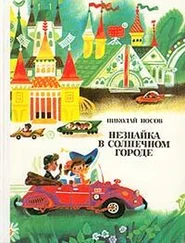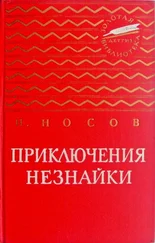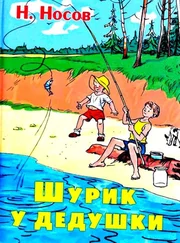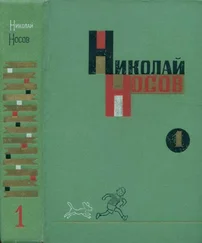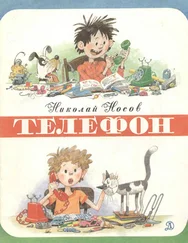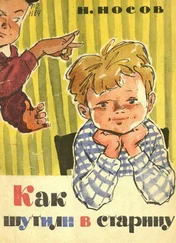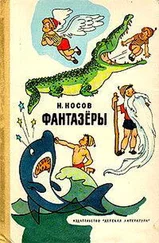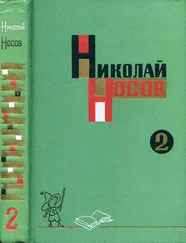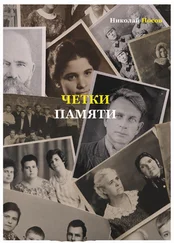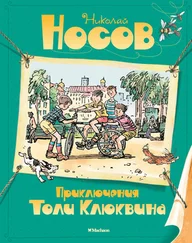«Да он просто упал!» — сообразил я и в тот же момент почувствовал, что сейчас рассмеюсь. Весёлое настроение почему-то овладело вдруг мной. Что-то словно толкнуло изнутри в грудь, и я готов был заржать самым нелепым образом, но вовремя спохватился и подавил смех. Помню, я даже смутился и огляделся по сторонам, чтоб узнать, не заметил ли кто улыбки на моём лице. Хотя своего лица я и не мог видеть, но сильно подозреваю, что непрошеная улыбка уже была.
После этого меня долго не оставляло чувство неловкости.
«Ну вот! — сокрушался я. — Человек упал, внутри у него могло что-нибудь лопнуть, а я смеюсь!»
Правда, фактически я не смеялся, но желание рассмеяться всё-таки было, какой-то толчок, побуждающий к смеху, я ощутил.
Мне стали приходить в голову грустные мысли, что я какой-то скверный, недобрый, злой человек, способный смеяться над несчастьем других. Раздумывая на эту печальную тему, я стал припоминать разные случаи из своей жизни, стараясь выяснить, с чего же всё началось. Постепенно я углубился в далёкое прошлое и обнаружил, что ещё в детском возрасте у меня уже была эта отрицательная черта.
Особенно мне запомнился один случай. В те годы у меня был друг. Его звали Гуча. Он был немец и придумал такую вещь: протянуть поперёк тротуара верёвку, чтобы все спотыкались и падали. Дождавшись вечера, мы привязали один конец верёвки к деревянной тумбе, стоявшей на краю тротуара, а другой конец пропустили сквозь ограду палисадника, за которой спрятались. Как только кто-нибудь приближался к нашей засаде, мы натягивали верёвку, и прохожий, споткнувшись о неё, летел с ног, что очень смешило нас.
Кончилась вся эта весёлая затея тем, что о нашу верёвку споткнулся некто старый Котяка, у которого была шорная мастерская в конце нашей улицы, в угловом доме. Не знаю точно, то ли Котяка была его фамилия, то ли его дразнили так, только все называли его за глаза старый Котяка.
Поднявшись с земли и страшно ругаясь, старый Котяка перелез через ограду и как следует отстегал нас с Гучей уздечкой, которая была у него в руках. Меня он здорово тогда смазал уздечкой по шее, как сейчас помню. Должно быть, мы слишком громко смеялись, иначе он не услышал бы, так как был глуховат; об этом все знали.
Припомнив несколько подобного рода случаев, я убедился, что в детстве был очень легкомысленным существом, как, впрочем, и другие ребятишки. Ведь дети ещё не знают, какие страшные последствия может иметь самое простое, бесхитростное падение. Если им говорят взрослые, что, падая, можно сломать ногу или руку, они этому не очень верят, так как собственный опыт их учит другому. Иной мальчуган раз двадцать на день падает, карабкаясь по деревьям или заборам, спускаясь с горы на санках, на лыжах или попросту на подошвах собственных башмаков, и всё же возвращается домой с целыми руками и ногами, потому что в детские годы кости у человека более гибки и упруги, чем в старческом возрасте; отдельные же ссадины и царапины в счёт не идут. Увидев упавшего человека, ребёнок вообще не думает, к чему это, в конце концов, может привести, а сам факт падения почему-то смешит.
3. Как мы начинаем смеяться над другими людьми
Дети, конечно, не рождаются со способностью смеяться над упавшими людьми, и даже с какой бы то ни было способностью смеяться. К тому же способность смеяться появляется у них не сразу, а развивается постепенно. Подобно тому, как несколько позже ребёнку придётся учиться ходить, овладевать речью и прочее, так на первых порах ему нужно научиться выражать свои чувства в движениях лица и тела, в жестах, мимике, крике, плаче, улыбке, смехе — иначе говоря, овладеть языком чувств.
Впервые ребёнок начинает улыбаться примерно на шестой неделе после рождения, но улыбка его в этот период ещё очень неопределённа и не относится ни к чему. Ребёнок может улыбнуться, испытывая удовольствие от насыщения молоком или от ощущения тепла, если до этого ему было холодно. Немного позднее ребёнок начинает улыбаться матери или тому лицу, которое ухаживает за ним. Эта улыбка уже в известной мере сознательна, так как возникает в результате развивающейся в ребёнке способности запоминать, то есть сохранять и воспроизводить в своём сознании прежние впечатления. Ребёнок узнаёт мать, потому что много раз перед этим видел её, когда она кормила его, ласкала, баюкала, ухаживала за ним. Уже один вид матери связывается в сознании ребёнка с прежними приятными ощущениями и по воспоминанию вызывает приятную, радостную эмоцию, выражающуюся в улыбке.
Читать дальше