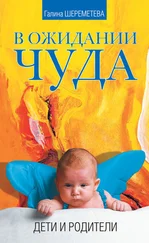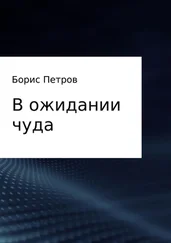Зимой Людмила носит чёрную косуху, летом — чёрные футболки с названиями её любимых групп, монстрами и черепами. И всегда — бандану, тоже чёрную. Может, когда-то Людмиле хотелось стать пиратом. Хотя если присмотреться повнимательней, то заметно: ещё чуть-чуть — и она превратится из мамы в бабушку, в бабушку-рокершу с хвостом длиной и толщиной с удава. К тому же она травница-колдунья и лекарка, знает всё-всё про любой листок и корешок. Собирает множество разных растений, сушит, смешивает, растирает, толчёт, отваривает и заготавливает впрок. Ей известны всевозможные хитрости, она умеет делать компрессы из творога и картошки, травяные мази и луковый сок. Творит отвары, создаёт и оттачивает новые рецепты. Прошлым летом получила права на вождение мотоцикла, теперь дело только за самим мотоциклом. У неё есть две дочки, которыми она очень гордится, и больной муж, он больше не может работать, поэтому она здесь — чтобы зарабатывать деньги. Иногда Людмила на пару недель уезжает домой, в маленькую деревушку на юге Польши — название у неё такое, что язык сломаешь.

Людмила стоит рядом со мной, положив голову на кулак, а кулак — на ручку швабры, и смотрит на меня сощуренными глазами. Потом выдаёт «пф-ф-ф!» и драит пол дальше.
Капля за каплей — получается восковое письмо.
Каждый раз, когда приходит Людмила, в квартире пахнет супчиком — это её конёк и фирменное блюдо.
— Колдунья-травница? Не-е-е-ет… — Людмила качает головой. — Хотя они действительно есть!
И добавляет шёпотом:
— Их совсем мало, но они существуют, такие женщины. Они умеют колдовать, исцелять, они сами как часть природы. Ну, а я — нет. Я просто супы варю.
Пока она с бешеной скоростью протирает пыль, гладит, убирает и раскладывает вещи, моет окна, ловко лавируя в наших джунглях, поливает восемьдесят четыре растения (ровно столько, сколько каждому из них нужно), осторожно отщипывая пожелтевшие листья, щебеча с ними по-польски и насвистывая какие-то мелодии, ловит и выпускает на улицу насекомых, перестилает постели, слушая в плеере тяжёлый рок, проветривает, пылесосит, чистит ванну или рассказывает мне о колдуньях, — на плите каждый раз как бы сам собой варится супчик. Едва сменив ботинки на домашние тапочки, она уже крошит в кастрюлю какие-то невыразительные овощи, помешивает, нюхает, дует, пробует и время от времени приправляет, тихо что-то нашёптывая.
Я люблю наблюдать за Людмилой, мне тоже хочется научиться колдовать супчики. А когда она уходит, на плите стоит кастрюлька с волшебным содержимым — посреди чистейшего, аккуратнейшего сияния и блеска, которые Людмила оставляет после себя, как ураган — разрушения и разгром. Мама говорит, что Людмилины супчики помогают в сто раз лучше любого лекарства.
Людмила всегда приходит по утрам, когда я уже в школе, помогает маме встать, принять душ и одеться, а когда я возвращаюсь, её чаще всего уже нет. Но иногда она ещё у нас, и мы сидим втроём за нашим крошечным пластмассовым столиком и молча дуем на дымящиеся ложки.
Людмила — как тёплое уютное одеяло. Очень хорошо, что она у нас есть. Только вот в искусстве она ничего не понимает, мои скульптуры для неё — мусор, которому не место на холодильнике. А холодильник — просто холодильник, а вовсе не постамент для произведений искусства. Пока я капаю воском на своё восковое письмо, Людмила что-то помешивает в кастрюльке, пробует, снова накрывает крышкой и исчезает в коридоре.
Я размышляю: где-то она точно есть, где-то она должна быть у мамы припрятана, эта коробка с письмами. Когда мама в следующий раз пойдёт на лечебную гимнастику, начну искать. Я всё хочу прочитать, хочу точно знать, как всё было. Хочу знать их волшебные истории, про то, сколько шагов было от его дома до её, про то, как Клара уехала и как снова вернулась, как они смотрели друг другу в глаза и опустились на колени, про безоглядную убеждённость — вот это всё. И если во всём этом есть хоть капля настоящего — тогда нет сомнений, что мама и Тот Человек созданы друг для друга. Я просто-напросто должна это знать. Я обязана выяснить правду!
Де Кляйн — что за дурацкая фамилия! Похожа на фламинго, едет на красном дребезжащем велике стоя — наверно, чтоб все на неё оборачивались. На руле с обеих сторон болтаются холщовые сумки, из них выглядывают верхушки ананасов и лук-порей. Я следую за ней на безопасном расстоянии. Потрёпанные джинсы и чёрно-белая полосатая майка, кроссовки, вид продуманно-небрежный. Пф-ф-ф. Поворачивает к опере, велик грохочет по булыжникам Рыночной площади и останавливается перед театром. Я притормаживаю и жду. Что ей делать в театре с пореем? Она студентка, но что конкретно изучает, я ещё не выяснила. А в опере она, наверно, работает. Может, актрисой? Да, ей бы пошл о , курице надутой. Но порей-то зачем?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу