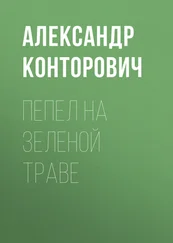Первое, что я почувствовала, просыпаясь, — это равномерное покачивание сундука, на котором я спала. Что-то во мне екнуло. Радостная, тревожная волна прокатилась по всему телу. Так, значит, мы едем! Едем! Я открыла глаза. Щит из досок был отставлен, и в широком открытом проеме, как на экране в кино, нет, в тысячу раз лучше, чем в кино (а ведь еще вчера я считала, что лучше, чем в кино, не бывает), перемещались деревья. Словно заигрывая с нами, они подбегали совсем близко к вагону и тут же устремлялись назад, уступая место другим… Я увидела лесную чащу — настоящую, дремучую, с травой по пояс, с поваленными стволами, с солнечными полянами, с веселыми пригорками, и все это дышало чистотой и свежестью, все было просвечено солнцем, и все это под стук колес, как под песню, летело мне навстречу, и оглушало, и сияло, и пело. И все это было счастьем.
Теперь самым моим любимым местом стало «окно». Собственно, настоящего окна не было — но был дощатый щит, наполовину загораживающий проем в стене. Я становилась возле, облокачиваясь о щит, как о подоконник, и смотрела, смотрела… Иногда поезд пролетал так близко от деревьев, что я слышала, как с хрустом ломаются ветки, хлестнувшие по дощатой стене. А то какая-нибудь шальная ветка на миг заглядывала в вагон, и тогда я спешила на ходу сорвать лист. Скоро это стало для меня увлекательной игрой. Я уже срывала не один лист, а два-три… Словом, чем больше листов я срывала, тем сильнее было мое ликование. Кончилось это плачевно: на пятом по счету листе острая ветка, как бритвой, распорола мне ладонь. Игру пришлось прекратить.
Но на смену одной должна была прийти другая. И она не замедлила явиться. Казалось бы, безобидная, но, по существу, не менее опасная, чем первая. Хотя это уже была опасность другого рода, более скрытая. Как-то вечером при свете керосиновой лампы со слабо открученным фитилем (посильнее открутить мы боялись, чтобы ненароком не наделать пожара, а то чем тушить? Даже воды нет) — так вот, однажды вечером я долго смотрела на маму и вдруг представила, что моя мама — вовсе мне не мама, а свою маму я потеряла в войну во время бомбежки. Меня нашли и поместили в детдом, откуда меня и взяла моя нынешняя мама. А моя родная мама живет где-то в далеком городе и каждый день плачет по своей потерянной дочери, то есть по мне, и не может меня найти.
Я стала пристально вглядываться в маму, которую еще вчера считала своей, и решила, что и вправду на нее совсем не похожа. У нее широкие и густые брови, а у меня тонкие и узкие. Она скуластая, а я, наоборот, узколицая, у меня волосы вьются, а у нее нет.
Мне даже стало казаться, что она мало беспокоится обо мне. Вот бабушка — та беспокоится, а мама — нет. Вчера, когда я порезала веткой руку, бабушка перерыла все вещи в поисках йода. А мама сказала: «До свадьбы заживет». И к тому же не разрешила бабушке распаковать чемодан, в котором мог быть йод.
Потом я стала гадать: а как же выглядит моя родная мама? Но почему-то никак не могла этого себе представить.
В это время моя «ненастоящая» мама позвала меня есть картошку, которую она поджарила на маленькой раскладной плитке, где вместо дров или керосина горел парафин. При этом — вот странно — огонь был не красным, а синим. Никогда в жизни я не видела синего огня. Пожалуй, в другое время я бы чрезвычайно заинтересовалась этим потрясающим открытием, но сейчас были дела поважнее.
Я долго не шла на зов, потому что думала о своем и уже представляла себе встречу с родной мамой. Но тут моя нынешняя мама рассердилась и сказала, что ей и так трудно готовить в таких условиях. И правда, от движения поезда огонь то гас, то, наоборот, разгорался так сильно, что бабушка боялась спалить вагон, а то и весь поезд. Я села к столу, но ела вяло, без аппетита, хотя вообще-то очень люблю жареную картошку. Мама спросила, не заболела ли я, и положила мне ладонь на лоб. И когда она это сделала, у меня вдруг потекли слезы. Я поняла, что очень люблю эту маму и совсем не хочу другой. Увидев, что я плачу, мама и вовсе перепугалась.
— Что у тебя болит? Рука? — нервно спрашивала она. — Ты не чувствуешь жара?
— Ну вот, я же говорила, что надо было достать йод, — проворчала бабушка.
Я сказала, что у меня не болит рука. Но маму это почему-то не успокоило.
— А голова? Может, голову надуло? Или уши? Уши не болят? Надо задвинуть щит.
Чем больше забот проявляла мама, тем противнее становилось у меня на душе. Меня уже мучило чувство вины. Получалось, что я как будто предала маму. Причем втайне, так сказать, за ее спиной. Ведь мама не знала, что происходит со мной, и не могла узнать, потому что даже под страхом смерти я бы не призналась ей в своих сомнениях и муках.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
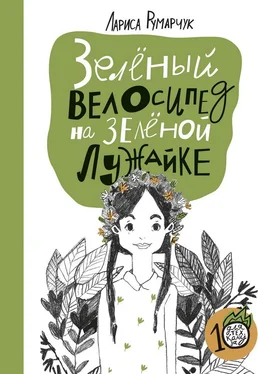





![Лариса Рубцова - Зеленые человечки [litres самиздат]](/books/437186/larisa-rubcova-zelenye-chelovechki-litres-samizdat-thumb.webp)