«Юноша», - сказал он мне, председателю союза поэтов!
А Брюсов не остановил его, Брюсов позволил захлопнуть дверь перед самым моим носом. Вокруг все хохотали. Я ушёл с вечера, не дослушав Брюсова.
Мою душу стала разъедать горечь столичной жизни.
Но мечты о славе не покидали меня. Каждый день после службы, покачиваясь в зубоврачебном кресле, я писал новые стихи.
Однажды вместе с Ниной Гольдиной мы отправились на Тверскую, в кафе союза поэтов, носившее название «Домино».
Там все желающие могли читать стихи с эстрады. Стихи тут же обсуждались присутствующими поэтами. В кафе часто бывали Маяковский, Каменский, Есенин…
Я очень волновался. Не то чтобы я не был уверен в своих стихах, а всё же… Ведь как много завистников! К тому же встреча с Брюсовым настраивала меня тревожно.
Неизвестные мне поэты пили чай, читали стихи. Стихи были непонятные, вроде свириденковских, и во всяком случае уступали моим.
Председательствовал могучий белокурый бородач. Он показался мне симпатичнее других, и я послал ему записку: «Прошу дать слово для чтения стихов. Штейн (из провинции)».
Не председатель союза поэтов, а просто - Штейн из провинции.
Передо мной выступал какой-то носатый критик, ругавший последнюю пьесу Маяковского - «Мистерию-буфф».
Я лихорадочно повторял в памяти, слова своих стихов.
Читал я лучшее стихотворение. Око было напечатано на первой странице «Известий» губисполкома: открывало мой злополучный сборник. Я читал с выражением, с жестами:
Мы идём по проездам больших площадей.
Мы идём по глухим закоулкам,
И шаги окунувшихся в вечность людей
Раздаются протяжно и гулко.
В зале разговаривали, звенели ложечками, по я не обращал на это внимания.
Мечтая о мире безбрежном,
Орлите на мыслей суку…
Последние строчки стихотворения даже мой соперник Степан Алый считал новым достижением пролетарской поэзии.
Мокрый, дрожащий от вдохновения, сошёл я с эстрады и сел рядом с Ниной. Она ласково посмотрела на меня.
- Слово имеет Владимир Маяковский! - объявил председатель.
Я даже вздрогнул от ужаса. Об остром языке поэта мне не раз приходилось слышать.
- Нина… - шепнул я, - Ниночка, что-то жарко здесь. Может, пойдём погуляем…
- Что ты, Саша! Ведь Маяковский!
Я приготовился ко всему.
Высокий, широкоплечий поэт поднялся на эстраду. Голос его, казалось, едва умещался в маленьком зале.
- Без меня тут критиковали мою «Мистерию», - сказал Маяковский. - Это уже не первый раз. В газетах появляются какие-то памфлеты. Плетутся какие-то сплетни. Давайте в открытую… А ну, дорогой товарищ, - обратился поэт к носатому журналисту, - выйдите при мне на эстраду. Покорите ваши наветы… Боитесь? Не можете? Косноязычны стали? Скажите «папа и мама». А ещё называетесь критик!… Критик из-за угла. Вам бы мусорщиком быть, а не журналистом!
Мне кажется, что я трепетал больше носатого критика.
Теперь он перейдёт ко мне.
Приближалась печальная минута - позор вместо триумфа.
- Нина, - шептал я, - давай уйдём. Душно… И неинтересно.
Но Нина только отмахивалась. Маяковский остановил свой взгляд на мне.
- К сожалению, - сказал он, - я опоздал и не мог прослушать всей поэмы выступавшего передо мной очень молодого человека…
«Вот оно, начинается… Всё кончено… Творчество… Слава… Любовь…»
- Хочу остановиться на последних строчках поэмы,
что в переводе на русский язык значит: сидите орлом на суку мыслей. Неудобное положение, юноша! Неудобное и неприличное. Двусмысленное положение. Весьма…
Испарина покрыла меня с головы до ног. Я боялся посмотреть на Нину. Маяковский заметил моё состояние и пожалел меня.
- Ну, ничего, юноша, - примирительно сказал он. -Со всяким случается. Пишите, юноша! Вы ещё можете исправить ошибки своей творческой молодости. Всё впереди.
Я вышел из клуба опозоренный. Молча шагал рядом с Ниной, не решался даже взять её под руку.
И всё же я не злился на Маяковского. Он обошёлся со мной лучше, чем Брюсов.
И я решил, что пойду к нему, расскажу о своих творческих планах. Он примет меня, поможет, поддержит на трудном, тернистом поэтическом пути.
Вскоре я получил собственную комнату и покинул гостеприимного Изю Аронштама. С грустью расстался я с уютным зубоврачебным креслом. Комната моя помещалась под самой крышей большого дома. Койка и стол занимали её площадь почти целиком. Украшало комнату большое кресло красного дерева, которое я перенёс из своего служебного кабинета.
Читать дальше

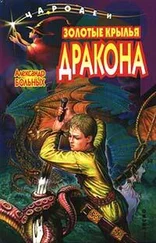



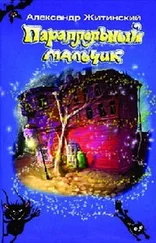
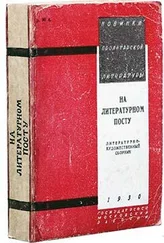
![Александр Исбах - Женщина в Гражданской войне [Эпизоды борьбы на Северном Кавказе в 1917-1920 гг.]](/books/412910/aleksandr-isbah-zhenchina-v-grazhdanskoj-vojne-epizody-borby-na-severnom-kavkaze-v-1917-1920-gg-thumb.webp)




