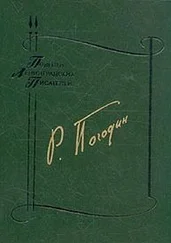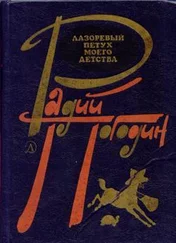— У вас пиво, ребята?
В кухне, а проходить нужно было через кухню, стоял Манин отец — курил.
Васька распечатал бутылку кухонным ножом. Манин отец поставил на стол стаканы.
— Ей плохо, — сказал Оноре.
— Я понял.
— Ей хуже, чем вы думаете.
— Забеременела?
Оноре скривился, будто споткнулся о неожиданный острый камень больной ногой. Васька покраснел, губы его расползлись в дурацкой улыбке.
— Не знаю, — сказал. — Думаю, сейчас ей нужен тазик и много воды.
Наверное, они выглядели идиотами. Манин отец засмеялся, прикрыл губы и нос стаканом.
Васька и Оноре стали за что-то извиняться, толкаясь и торопясь. Манин отец попрощался с ними:
— Счастливо, славяне.
Они шумно сбежали по вонючей лестнице. Маня говорила, что квартира у них деленная: передняя часть с парадным входом досталась старшему брату отца — строевому моряку.
Темный двор, заставленный поленницами, был похож на пакгауз в чистилище: стены в темноте растворились — окна висели рядами, как светящиеся пакеты с душами, приготовленными для отправки в рай. Казалось, они сейчас дрогнут и вознесутся один за другим слева направо с нежными звуками неземной радости.
Где-то под крышей захрипело, зашипело, загрохотало, и во двор медной лентой полезло танго "Утомленное солнце".
Васька сплюнул. Сказал:
— Так бы и врезал по губам.
— Кому?
— Мане, кому же? Выворачивается перед отцом. В Павловск, видите ли, на мамочкину могилку плакать ездит. Отрастила задницу, безутешная. Наверно, и мать у нее была истеричка. Ты мне скажи — что на нее накатило?
Оноре заострился профилем, но тут же отмяк.
— Я с нею дружу. Ты с нею дружишь. А матрос один молодой полюбил ее горячо. Она забеременела. И он привез ей мешок картошки: мол, хочешь — сама ешь, хочешь — продай и сделай аборт. Мы, говорит, матросы, всегда можем войти в положение.
Васька захохотал сухо — так собаки кашляют.
— Ты-то откуда знаешь?
— Я живу в одном доме с ее двоюродной сестрой. Тоже дружим.
Вышли на набережную Фонтанки. Трамваи шли по Аничкову мосту, потрескивали искрами, как будто небо было быстровращающимся наждаком и они затачивали на нем свои дуги.
— С Маней я столкнулся здесь, у моста. Она перелезала через перила. Кусалась. И царапалась тоже. Синяк мне под глаз поставила — мол, имеется у человека свобода воли и подите вон, будьте любезны. И не мешайте человеку топиться там, где ему приятно. Выяснилось заодно, что когда-то в детстве мы были знакомы. Как она хохотала... Моей маме нравилось водить меня в гости к образованным людям. В гостях я читал собственные стихотворения. Тогда мода на вундеркиндов была — рука на отлете, костюмчик бархатный с бантом, перламутровые пуговички, белые чулки и лаковые туфли. Маня чуть не задохнулась, когда все это вспомнила. Белые чулки, ты только представь себе. Я читал стихи об Икаре. Я говорил, что Икар был маленьким мальчиком. Ведь только молодым отцам придет в голову мастерить крылья. Тут все дело в отцах. Меня Маршаку показывали. Хвалил. — Оноре провел ладонью по влажным перилам, потом влажными ладонями провел по лицу. — Теперь Маня в тепле. Теперь за нею ухаживают. Теперь ее и взаправду будут любить. Я думаю, мать не любила ее. Так, обнимала, целовала, говорила: "Мы, доченька, одни в целом свете". Но под этим "мы" подразумевала только себя. Тебе приходилось чувствовать это самое "мы"? Как миллион сердец, и так жарко...
Они перешли Невский, остановились около коня, напротив аптеки. Оноре смотрел поверх Васькиной головы. Глаза его были неподвижными — и порожними. Зрачки расширились, как воронки. Свет фонарей и вся улица, все небо вливались в них и не достигали дна. Лицо его казалось алебастровым рядом с жилистой бронзой коня.
— Всего, — сказал он. — Мне туда. Мимо цирка.
— Всего, — сказал Васька.
Васька долго смотрел на уходящего под распускающиеся липы Оноре. Он едва держался, чтобы не броситься догонять его. Лопатки сходились, как бы наползали одна на другую. Болел затылок. Словно в мокром всем он лежал на стылой земле, стараясь отслоить от нее свою спину, выгибался, чтобы соприкасаться с землей лишь затылком и каблуками. Болели икры ног.
— Свищ? — спросил проходивший мимо грузный мужчина в полушубке. — В аптеку зайди. Попроси болеутоляющего. Или помочь?
Васька отрицательно помотал головой. Мужик в полушубке пошел, оглядываясь. Никто не чувствует боль и одиночество солдата более полно и чутко, чем другой солдат. А Ваське было так одиноко, словно он тонул средь низинных вод, разлившихся до самого горизонта, и все, чего касалась его рука, было скользким и тонущим.
Читать дальше