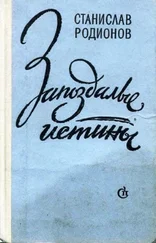Осенний воздух слегка остудил. Анна Васильевна шла домой, минуя все магазины: туда не пускали неуправляемые мысли и настроение…
После кражи была обида — на вора, на милицию, на всех. Неизвестно на кого. Чужой ходил по квартире, рылся в вещах, взял деньги и золото. Но теперь она заметила, что та обида куда-то пропала, как, скажем, золотые часики; да и что за обида, если квартирная кража может произойти у всякого вроде лопнувших труб или короткого замыкания. Но почему-то пришла обида другая, настоящая, личная: в официальном органе усомнились в ее совести. Мол, не было ни денег, ни золотых вещей.
Через десять метров Анну Васильевну взяла злость на себя, потому что опять уперлась в уже решенное: кто оскорбил-то? Вор и мальчишка. Но вроде бы очевидный довод не успокаивал. Этого вора и мальчишку вытеснил из сознания Петельников. Теперь, выбросив из памяти телевизионных оперативников да и самого парня с его дикими словами, Анна Васильевна видела только лицо капитана. Ведь не просто смотрел и слушал перепалку, не просто позволил шпане издеваться, а бегал взглядом с одного на другого, как бы оценивая, кто же прав. Не оскорбление ли: ее, порядочную женщину в годах, работницу со стажем, мать солдата, потерпевшую от кражи, уравнять с несовершеннолетним балбесом, вором, который без зазрения совести признался, что был в квартире? Дурной оперативник. И это ему она достала стиральный порошок? А ведь сперва понравился.
Анна Васильевна тихо вздохнула и все-таки зашла в булочную; скорее, не ради хлеба, а ради растрепанных мыслей своих, которые надо было вытащить из того милицейского кабинета. Да они как прилипли.
Вор-то. Сколько ему — пятнадцать, шестнадцать? Одет прилично, лицо полудетское, чистое. С чего занялся таким промыслом? От вольготной жизни. Двоек им теперь не ставят, на интересные работы заманивают, в институты завлекают… Вот и растут на одних правах и без всяких обязанностей.
В пятидесятых годах, когда сама бегала девчонкой, дух был другой. Старшие молодых строжили. Попробуй-ка место старику не уступить — весь трамвай взметнется. Молодых поучали дружно и от души — и в одежде, и в манерах, и в сути жизни… Теперь же старшие помалкивают, точно боятся молодых.
Анна Васильевна пошарила в почтовом ящике. Письмо. Нет, сложенный вдвое тетрадный листок. Она развернула…
Синий череп, ловко нарисованный жирным фломастером. Синие глазницы, синий крест мосолистых костей. Мальчишки хулиганят…
Она поднялась на свой этаж и вошла в квартиру.
Пятидесятые годы… А может, дело в другом? У тех-то старших была за плечами война, блокада, потери, труд тяжкий — имели право поучать. А у теперешних старших, у тридцатилетних—сорокалетних, что за душой? Что они видели? Тоже родителями взрощены на беззаботном житье. Нет у них морального права учить молодежь. Взять хотя бы мужа… Руки хорошие, а выпивает. Станет его слушать молодежь? Вот такие старшие и сидят, и помалкивают.
Анна Васильевна хотела заняться домашними делами, но зазвонил телефон. Она взяла трубку.
— Слушаю…
В трубке молчали, но шумное дыхание не скрывалось.
— Слушаю, слушаю! — повторила она громче.
— Молилась ли ты на ночь, Дездемона? — грубо спросил мужской голос.
— Что за глупая шутка?
— Письмо мое получили?
— Какое письмо?
— Синее.
— Получила, — зачем-то подтвердила она.
— Тогда молитесь и ждите.
— Ну-ну, я тебе похулиганю!
Трубку бросили. У Анны Васильевны сразу заболела голова. Она пошла было в ванную, в аптечку, но вспомнила данный на работе совет — приложить к затылку медный пятак: он, если сильно потертый, впитал биополе многих тысяч людей и поэтому боль снимет непременно. Но пятака в сумке не было, и пришлось съесть таблетку.
Через полчаса — от лекарства ли, от кухонных ли дел — голова прошла, оставив лишь какой-то подземный гул в затылке. В конце концов, нельзя обращать внимание на ребячье озорство. Да голова разболелась не от синего черепа и не от звонка — от милиции она, от оскорбления.
Так и не дождавшись мужа, Анна Васильевна хотела сесть за чай, но услышала странную ноту — не то вой, не то плач. Она глянула на чайник. Но звук шел вроде бы с потолка. Или с улицы. Она подошла к окну — звук оказался за спиной. Трубы? Они иногда поют, и плачут, и хохочут. Анна Васильевна покружилась по кухне — звук пропал. Но тут же заныл вновь — протяжно, жутковато, походя на стон тяжелобольного. И шел он из передней, как бы отрезая путь. Она вновь посмотрела на темное, пожутчавшее окно, будто теперь у нее не оставалось иного выхода на улицу. Но здравая мысль подбодрила: ведь надо лишь включить свет в передней.
Читать дальше