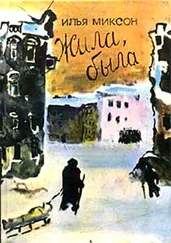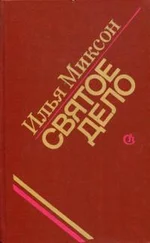От мучительно долгого напряжения опять помутилось в голове. Тетерева на дверцах буфета ожили, принялись клевать виноград, защебетали:
«Вася… Вась, ты жив?»
Бред, конечно. Тетерева не попугаи, не разговаривают. Тем более деревянные. Это Коська зовёт. Стоит, наверное, внизу, на тротуаре, задрал вихрастую голову, приложил ладони рупором и кричит на весь Васильевский остров:
«Ты жив?»
Подбежать бы к окну, навалиться на подоконник, помахать рукой, ответить:
«Жив! Заходи! Ты где пропадал так долго?»
Вася собрался с силами и приоткрыл глаза.
Раскачиваясь, как белый медведь, мохнатый с головы до ног от инея, кто-то медленно-медленно приближался к дивану.
«Смерть пришла», — равнодушно подумал Вася и закрыл глаза.
Смерть тяжело присела на краешек дивана и заговорила немощным, старческим голосом:
— Вася, ты жив?
«Не видишь, что ли?» — хотел ответить Вася, только не смог.
Смерть наклонилась к самому уху.
— Ты жив?
Вася слабо шевельнул смёрзшимися ресницами. Теперь он точно знал, что жив. Перед ним был Коська Смирнов.
— Держись, — сказал Коська и опять исчез.
Через какое-то время явились два старика. А может быть, и не старика. Тогда все выглядели дряхлыми — и дети и взрослые.
Коська ждал в подъезде, выдохся. Первый день из госпиталя. Коську ранило осколком на Университетской набережной, рядом с госпиталем. Если бы его не ранили, он бы, наверное, просто умер от голода. И не пришёл бы за Васей.
Санки — на таких возили раненых, воду с Невы, мёртвых — потряхивало и качало на неровностях и ледяных торосах проспекта. Когда удавалось разлепить веки, виднелось серое небо в снежной кутерьме или заиндевевшее лицо Коськи. Он часто спрашивал:
— Вась, ты жив?
Он всё молил, требовал: «Живи… Живи. Живи!»
Ветер срывал верхушки сугробов, как пену с морских волн. Санки переваливались с холма на холм, и Васе казалось, что он на пароходе в штормовом Индийском океане. Стоит тропическая жара, и совсем не хочется есть. Нисколечко не хочется, как до войны.
Пароход качает, в лицо хлещет белая пена. Но ничего, стальной корпус не такой шторм выдержит, и машина сильна.
«Полный вперёд!» — капитанским басом командует Вася.
— Полегче, полегче, — хрипит кто-то, — перевернём…
А Коська одно и то же твердит:
— Вась, ты жив?
Он увидел в белом тумане Коську и снова провалился в небытие. Спустя несколько минут воспалённый мозг опять заработал, но теперь Вася очутился не в будущем, а в прошедшем. Они с Коськой третьеклассники и уже связаны нерушимой клятвой, сверхсекретной. Никто и не догадывается, что они посвятили свою жизнь морю. Никто, разве что дома…
«А это откуда? — упавшим голосом спрашивает мама, разглядывая вывернутый манжет рубашки. Там лиловое пятно. — А ну покажи руку, безобразник!»
Этого он не сделает и под страшной пыткой! На левом запястье «вытатуирован» чернильным карандашом матросский якорь.
…Огромный вал с такой силой обрушился на палубу, что застонали переборки. Теплоход затрясся на пенистых обломках волны, как на ледяных торосах.
Николаев крепче упёрся ногами.
— Вконец озверели, — пробормотал он вслух.
И было непонятно, кого он имел в виду: штормовые волны, атаковавшие «Ваганов», фашистов, вцепившихся в горло Ленинграда в ту войну, или тех, кто напал вчера на советское торговое судно в мирном вьетнамском порту.
Если бы он был в ту минуту там! Броситься на помощь, подхватить оседающего, залитого кровью Костю. «Коська! Друг! Живи, Коська! Живи!»
А Костя ответил бы, наверное, умирающим голосом блокадного мальчика: «Поздно, Вась… конец».
Николаев так живо представил себе последний разговор с другом, разговор, который не был и уже никогда не мог состояться, что на лбу выступила испарина. Он покрутил головой. Плакать Николаев не мог: разучился в блокадные дни и ночи.
В детдоме на Урале Вася Николаев и Костя Смирнов уже не рисовали якоря на запястьях, но остались мечта, клятва, верность намеченной цели жизни.
Константин стал механиком, Василий — радистом. Друзья плавали одну навигацию вместе, затем морская служба разъединила их.
Годами не встречались, только и обменивались праздничными телеграммами и радиограммами.
Когда у Кости с Мариной родился первый сын, Лёшка, Николаева, как ближайшего друга, объявили названым отцом. Но Николаев впервые увидел своего крестника, когда тот уже топал по комнате. Потом появился Дима. Костя был счастливым отцом.
Читать дальше