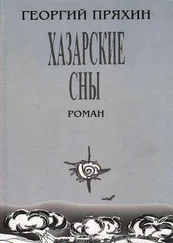Но, право, я и сам готов поверить, что он приехал на «хваетоне». Счастье ездит на фаэтонах. Это горе — на дровнях да на Саврасках.
Забрал своих неузнанных детей, свою состарившуюся жену, отца с матерью, и двинулись они в дальний путь. На бричке ехали одни старики, которым уже отказывали ноги, а остальные шли по бокам, взявшись за ее края: повозка на палке через плечо.
Долго ли, коротко ли ехали — приехали. В доме определились (представляю, как горд и доволен был прапрадед, показывая семейству новые владения), заночевали. С дороги спали великим сном. И только бабка с дедом ворочались, вздыхали, постанывали (погорельцы на соломе!). Потом и вовсе выползли во двор, под звезды.
— Да разве ж можно тут жить. Да это ж живая могила, а не дом! — тускло голосила бабка. — Глина на грудь давит, воздуха не слыхать. На кого же мы бросили свою избу сосновую, зачем покинули родимую сторонушку…
И проснувшаяся, разбулгаченная семья подавленно стояла вокруг под чужими раскосыми звездами.
Бабка Малашка пересказывает чужое причитанье, и оно звучит как ее собственное. Слеза блестит в бабки-Малашкином новолунье — куда она докатится?
Вот тебе и русское счастье. Казалось, бога за бороду поймал.
Ни дубового листочка…
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Малининская волость, деревня Редкокашино…
Не надеясь на своих многочисленных сыновей, дочек, внуков и правнуков, бабка Малашка с неутомимостью сеятеля бросает в меня эти провеянные годами слова, движимая столь же неутомимой надеждой сеющего человека, что они взрастут, что хоть кто-то в роду будет помнить, откуда есть пошли Гусевы.
* * *
…Сколько мать ни обдирала глухую стену лопатой, по-сельски говоря, ни «шпаровала» ее и ни обмазывала новой глиной, глухая стена хаты всегда оставалась слегка подкопченной. Возле нее, в затишке, ставили на зиму скирду соломы. В одну из зим младший братишка влез в солому и чиркнул спичкой. Сам остался жив, а над скирдой выше дома вымахнуло пламя. Я как раз был в школе, когда кто-то влетел в класс и крикнул: «Гусев, хата горит!» Задыхаясь, бежал я к дому вслед за тоскливо поскуливавшим Орлом. Кинулись напрямик, а снег глубокий, ноги проваливались и разъезжались, как во сне. Прибежали — хата цела, а скирду как слизнуло. Одна черная зола остывает на образовавшейся проталине, курясь горьким дымком пожарища. Запомнилось, впечаталось: солнечный день, сиянье снегов, и черная, едко курящаяся бездна правильной четырехугольной формы, над которой рыдала, ломая руки, мать.
Той осенью мы с нею навозили и заскирдовали пять возов ядреной ячменной соломы — по тем временам первый корм. Бригадир дал нам на день лошадей, и мы с раннего, еще только раздувавшегося, как сырой горн, утра и до темной осенней ночи ездили со двора на степь, к огромной совхозной скирде, да со степи к дому — с тяжелым, рясно поскрипывавшим возом. После я повел лошадей на бригадный двор — лег на дно брички (для того чтобы она была вместительней и могла везти сразу целый стог, к ней прилаживали приспособление, напоминавшее перепончатые, как у стрекозы, крылья), свернулся калачиком и, вконец уставший, уснул. В таком виде кони сами, шагом, и привезли меня в бригаду. Зато так сыто, спокойно Ночка никогда не зимовала. Да и у матери душа, как никогда, была на месте. И тут — пожар. Не судьба.
Только ворованными или выпрошенными вязанками, протиравшимся от худобы горбом да отмороженными пальцами и спасла мать Ночку в ту жестокую зиму.
Да и что за дом в России, который не горел? Надо отдать должное глине — сосновая «родимая» изба полыхнула б как солома.
Мать вела дом одна. Дважды выходила замуж, и все неудачно. Первый — не вернулся с восстановления шахт Донбасса. Второй, прибившийся к ней бездомный сапожник, фронтовик, бронебойщик, как только напивался, а напивался-таки часто, так возвращался под Кенигсберг. «Кинисберх» — удивительно точно произносил трудное нерусское слово и по-бычьи мотал головой.
Тоже — беженец.
В последний раз, после долгого перерыва, ездил к нему прошлым летом. Машина въехала на водораздел, а дом, как я ни искал его глазами, не выскочил, не встретил. И уже не ласточкой спускался я вниз. Чувство полета ушло, осталось лишь чувство утраты. Незаметно, с годами, из всего разноцветья ощущений, сопутствующих возвращению домой, выбилось, а теперь вот и разрослось, заглушив сопредельные травы, одно — полынное, саднящее.
Полынь.
Лето было дождливым, и по выгону, как по холке матерого зверя, прошла ее сивая рябь. Полынь была жирной, дурной и душила полезные травы, словно мстя за то, что ее, исконную жительницу здешних мест, когда-то согнали с них. На месте нашего порядка, как и на любом пепелище или заброшенном кладбище, она вообще стояла сплошным грозовым облаком, отягощенная своей паразитической тучностью и своим источаемым во влажный воздух запахом. Как тать, вползала в заброшенные хозяевами огороды и палисадники и рвала, давила, пускала пух налево и направо.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Георгий Пряхин Интернат [Повесть] обложка книги](/books/29922/georgij-pryahin-internat-povest-cover.webp)