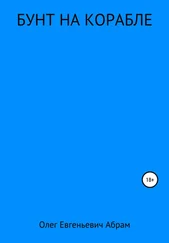Отряды отправляются по палатам, баянист Вася играет на ходу какой-нибудь маршик или, если поют, мелодию той песни. А все, уходя от реки, долго ещё оглядываются, особенно на бугре, потому что с бугра долго видно, как плывёт по извилистой Чуже, там и сям пропадая за кустами ивняка, жёлто-красный огненный корабль. И то там, то здесь выныривают и вновь пропадают силуэты Спартака и ещё чьи-то… Они следуют по берегу за потухающим костром, чтобы потом утопить его в Чуже…
Всё это я увижу в последний день смены, а теперь Матрена Сергеевна, проговорив своё: «Слушаюсь» и «Проверю», было двинулась, переваливаясь, на кухню, а я вдруг спросил у начальника:
— А вам теперь не больно уже, что ноги нету?
— Как? — удивился он, оборачиваясь ко мне и не со-;ем понимая, чего это я не ухожу и стою…
Я повторил, уже запинаясь.
— А? Больно-то? Да нет, давно уж не больно. Ты-то что это так нос сморщил, будто червяка съел?
— Жалко, — сказал я, смелея от его весёлого тона, а он явно заинтересовался мною и, махнув рукой, отпустил жену.
Она пошла к себе, глянув на меня с укоризной, отчего я вмиг прикусил язычок.
— Так что же тебе жалко? Говори!
— Ну, вообще… — промямлил я, уже напугавшись и думая, что, наверно, скажу глупость, он станет смеяться надо мной…
— А если не вообще, тогда как? — настаивал он уже серьёзно.
— Ну, что ноги у вас нету… И самих вас тоже жалко…
— Вот оно как! Жалко, значит, тебе? Конечно, жалко и даже очень: на двух-то куда интереснее, чем на одной. Вот, например, я такого, как ты, и догнать не смогу…
— А я ничего…
— Знаю, знаю. Все «ничего», а вот стёклышко нет-нет да и вылетало где-нибудь. Что? Нет, скажешь? А на двух ногах я бы знаешь как летал по всей территории — держись только! Да ладно, это дело давнее, я и сам-то редко уже вспоминаю, как мне её оттяпало. Жив остался — это главное. Другие были, мои товарищи, так им хуже вышло, совсем их теперь нету. Понял? Война…
— Да. Понял.
— Ишь ты какой… Твоя какая фамилия-то?
— Табаков Антон. Я от собеса, я тут в первый раз только.
— Значит, папка-то тоже небось у тебя… Инвалид, что ли?
— Нет, он сначала без вести пропал, а потом нам сказали, что убит…
— Ага. Ну, ясно. Значит, ты должен понимать. А с кем ты теперь? Мать-то есть?
— Есть. И бабушка ещё, только очень старая, ей семьдесят лет…
— Вот это я понимаю — бабушка! Ты давай садись вот сюда. Садись, чего стоять-то…
— Меня Гера будет искать, а потом…
— Чего — потом? Накажет, что ли? А ты ему объясни: мол, со мной начальник лагеря беседу, дескать, проводил. И ничего не будет. А скажи-ка ты мне, мать у тебя второго папку, мужа то есть нового, не подыскала ещё?
— Нет, — сказал я, и разговаривать мне вдруг совсем расхотелось. «И так-то уже, — сообразил я, — наговорил ему всего, чего не надо». Я встал. Он, видимо, понял.
— Что? Заскучал со мной? Ну, иди, иди в отряд. Приходи, когда надо, — сказал он мне вслед. Может быть, для того, чтобы я знал, что он теперь помнит меня.
Я был худой, невысокого роста, очень ловкий и вёрткий мальчишка, но замкнутый и молчаливый и всегда с трудом и долго сближался с новыми ребятами.
Про меня и дома-то, во дворе у нас, говорили: «Очень много о себе понимает. Упрямый и вредный…»
Или ещё говорили: «Его спрашиваешь — он молчит. Орёшь на него — молчит. Бить, что ли?»
Но зачем это меня бить и за что?
В лагере, особенно вначале, я и подавно сделался совсем как улитка.
Я пошёл от него, жалея, что столько наболтал лишнего, понимая, что промолчать — лучше, чем не промолчать, однако сдерживать себя я умел не всегда.
Потом я оглянулся и увидел, что он, безногий начальник, по прозвищу «Партизан», всё так и сидит на крылечке столовой и стоит рядом с ним его металлическая, сделанная на заводе нога, и что-то он, как мне показалось, даже подвинчивает в ней. Опять стало мне жалко этого человека, и даже не потому, что он одноногий: живой же всё-таки! — сам так сказал. Жалко мне его ещё почему-то. почему — и сам не знаю…
Может быть потому, что вот он один, сидит теперь на белом деревянном крыльце и что-то про себя думает… что-то вспоминает такое, какое знает и понимает только ж один, а больше никто. И рассказать ему про это никому невозможно. Потому что всё, что он пережил, — это он и пережил, он и перенёс, так, как не пережил и не перенёс уже никто больше…
Впрочем, я не уверен в том, что думал тогда именно гак. Верно одно: было мне очень печально глядеть на него, а всё остальное я мог и потом додумать.
Читать дальше

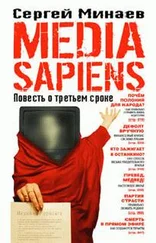
![Анатолий Байбородин - Деревенский бунт [Рассказы, повести]](/books/27746/anatolij-bajborodin-derevenskij-bunt-rasskazy-po-thumb.webp)
![Сергей Кузнечихин - Блюститель [рассказы, повесть]](/books/31549/sergej-kuznechihin-blyustitel-rasskazy-povest-thumb.webp)


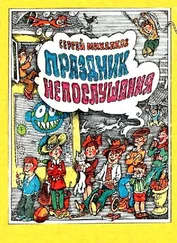
![Александр Белогоров - Большая книга ужасов. 18 - Черный фотограф. Бунт марионеток [повести]](/books/80423/aleksandr-belogorov-bolshaya-kniga-uzhasov-18-cher-thumb.webp)