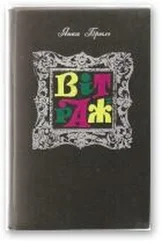Мне и самому, пожалуй, было приятно, что он наконец вошел, растерянный, не очень веря, что сможет опять очутиться под одеялом…
— Ваши просили, товарищ, чтоб вы уже шли…
Я попрощался и вышел из хаты, не столько злой, сколько оскорбленный. Да, в моем возмущении таились боль и обида. Может быть, я немного раскис от простуды? Да нет, не то… Ведь я был тоже молодой, немногим старше этого перепуганного мужа, я не отсиживался, как он, под теплым крылом гарнизона, мне было чем гордиться, и мне было горько, что о нас, обо мне… Да ну их к черту! «В кривом глазу и прямое криво».
Обида и злость прорвались бранью лишь тогда, когда мы отъехали, погрузились в метельный мрак и Щерба рассказал, что Журавель наш христом-богом молит, отказывается быть связным. Невестки, говорит, боится: «В хате, хлопцы, чужой человек». Может, и правда боязно, а может быть, сдрейфил, виляет — нейтральным быть захотелось, чистеньким, как говорится, и перед немецкими и перед советскими…
Кто ездил верхом в завируху, да еще ночью, когда ни лошадь, ни ты дороги не видишь, тот знает, что это за сласть. Ты поднят над землей, а тысячи тысяч ветров один за другим с неисчерпаемым запасом злого веселья пронизывают тебя, беззащитного, насквозь. И снова, и опять, и без конца насквозь!.. Сечет лицо, колени прямо звенят. А мало тебе этого, мало вдобавок простуды, так получай еще и дурное настроение…
Хуторской дорогой нам надо было выбраться на большак, значительно правее городка, чтоб по большаку проскочить до деревни Мокрое, а там уже повернуть домой, в лес. Дороги, собственно говоря, не было, была заметенная, злобно взлохмаченная чистополица. Черти дерюгами дерутся. Но Щербин конь находил как-то путь. Коля пробирался первым, я за ним, а сзади Ермаков. Держались друг за другом, ближе, чем обычно, и, как всегда в пути, молчали. Сегодня даже и думать холодно.
Я думал об одном. Это уже и не дума была, не желание даже, а какая-то фата-моргана, видение тепла, уюта: горячего внутрь — и с головой под кожух! Я в это верил, не верил, снова, кажется, верил… Но это вело меня, и, ощущая опору в коне под собой, надеясь на товарищей, я плыл вперед, в беспредельную стужу и шум метели.
Конь мой наткнулся на лошадь Щербы. Я дернул левый повод и, поравнявшись с товарищем, приблизил лицо к его лицу, хотел заглянуть, увидеть, чего он хочет.
— Ну, как ты? — крикнул мне Коля, как из-под подушки.
— Хреново, — ответил я с телеграфной скупостью, прикрыв рот от ветра.
— Га-ла́-ма-ла́-ба-ла! — снова крикнул он.
— Что? Не слыхать ни…
— Хутор, говорю. Во, справа!..
Я понял: до Мокрого еще далеко, надо заехать сюда.
Правда, нам и Журавель намекнул — не перекусить ли, да там не захотелось: и настроения не было, и не рассиживаться же под самым носом у полицаев. Да и просил он… Именно только намекнул.
Так мы заехали тогда на этот теперь уже одинокий хутор в лощине.
Теперь одинокий… Тогда же, когда мы подъезжали к нему, он был единственный во всем мире. Как островок, к которому мы подплыли, чтоб взобраться наконец на скользкий, обрывистый берег, почуять наконец землю под ногами, вздохнуть, оглядеться, поразмыслить, что же дальше…»
Так думал я. Хлопцам просто погреться хотелось, перекусить. Ну, и меня им, конечно, было жалко.
Я не настолько, однако, раскис. Слезши с коня, я первый подошел к темному окну и постучал в стекло. Ни звука, ни шелеста. Может быть, я не слышу? Постучал еще. Тут и Щерба мне помог, тряхнув всю раму своим кулачищем.
— Идет! — крикнул он, наклонившись ко мне. Крикнул громче, чем надо, потому что здесь, за ветром, было тише.
Мы жили по законам своего времени, и мысли о том, вежливо-невежливо вот так колотить среди ночи в чужое окно, не было. Мы даже разозлились и имели право на эту злость. Может, здесь тоже отлеживается какой-нибудь тепленький, непуганый муж или нейтральный, чистенький свекор… Подумаешь, нарушили его покой!.. Еще и прикидывается, байбак, что спит.
Я стоял у самой двери, слышал уже, что за нею кто-то шарит рукой по доскам, нащупывая засов. Я держал перед собой… да нет, не автомат, а фонарик, пока не включенный. Засов наконец отодвинулся, щелкнула клямка, и дверь отворилась.
Вспыхнул фонарик.
Я заранее представил себе этот момент (в моем состоянии естественно было это себе представить), как увижу уже не заспанное, уже испуганное лицо хуторянина, который тут-то и отдаст свою дань, внесет свой великий вклад во всенародную борьбу — отпустит нам полчасика домашнего тепла, чего-нибудь поесть и одному чем-нибудь подлечиться. Уж вы извините, что мы полюбуемся вами вот так, на виду!..
Читать дальше