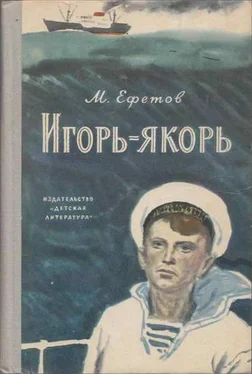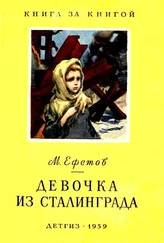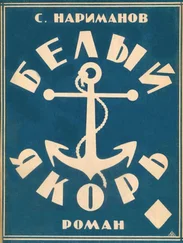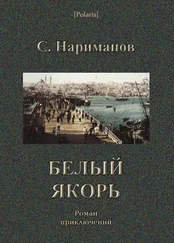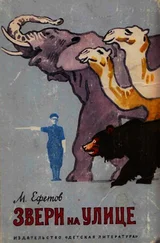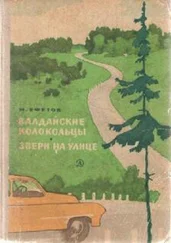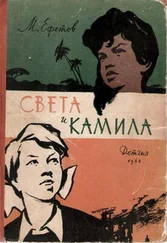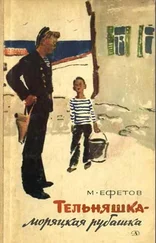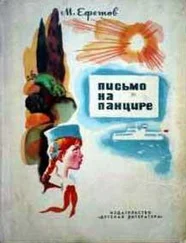Это продолжалось несколько минут. Но многие жители города — все, кто встал пораньше, чтобы приветствовать красноармейцев, вывесить красные флаги или просто пройтись по умытым дождём улицам, видели эту таинственную тень. С верхней ступеньки большой городской лестницы можно было разглядеть на облаках как бы силуэт Прокопыча.
Это продолжалось несколько минут. Гигантская тень старика шагала по небу.
Несколько минут хватило вполне на то, чтобы это увидели сотни людей, спускавшихся в то время в порт. Одни застыли, замерли; другие, плача, упали на колени; многие крестились и молились.
Спустя пять-шесть минут тень исчезла.
А сам Прокопыч бесследно исчез с промыслов.
Красноармейцы смеялись, когда им рассказывай о чуде. Но ведь это была правда, что призрак, похожий на Прокопыча, бродил по облакам.
Много лет прошло с тех времён, когда бежали хозяева соляных промыслов Медвежатовы, а о тени сторожа Прокопыча на облаках люди не забывали. За эти годы мало что нового произошло на косе между лиманом и морем. Промыслы забросили, вместо них появился за городом соляной завод «Химсольтреста». Коса эта бесплодная опустела: никто там, на солончаковой земле, не селился, не жил. Доживали свой век только два старых здания: контора и дом управляющего Медвежатовых.
Но зато какое раздолье было на этой косе мальчишкам!
Первым освоил пустынное солончаковое поле Яков Петрович в те времена, когда был он «Яшей — взяла наша» или Яшей-голкипером (так называли тогда вратаря футбольной команды). Прошли годы, Яков Петрович стал отцом, и сын его уже подрос — Игорь Смирнов. Он-то уж облазил все закутки соляной косы. В те годы спортивного стадиона в городе не было, и район соляных промыслов был, можно сказать, главным спортивным центром города. Случалось, что здесь, на старых соляных промыслах, собиралась масса народа смотреть матч портовиков с матросами какого-нибудь иностранного корабля.
Да, на соляной косе бывал настоящий большой футбол. Правда, до тех только пор, пока незадолго до Великой Отечественной войны в городе не выросла огромная чаша стадиона. А всё равно мальчишки тренировались и матчи «диких» команд устраивали на солончаках.
Однажды во время первого матча на соляной косе в облаках вдруг появилась тень человека. Призрак был в каких-то лохмотьях, и эта одежда колыхалась, точно крылья фантастической птицы.
Привидение нависло над футбольным полем, и стыдно сознаться — струсили ребята и бросились врассыпную. Только Игорь остался и точно по часам засек время: сколько минут привидение шагало по облакам.
После этого случая вновь заговорили о солончаковой косе, а Игоря даже опрашивали в какой-то научной комиссии, которая пыталась разобраться в истории с призраком. Но вскоре снова забыли об этой пустынной косе, пока не грянула война.
И вот теперь места эти захватил враг. Гитлеровцы устроили здесь концентрационный лагерь. Огромный загон, огороженный двойными рядами колючей проволоки, был набит людьми так, что люди стояли или сидели — лечь на раскалённую землю, вытянуть ноги нельзя было, не было места.

Нещадно палило солнце. И потому именно адмирал Кельтенборн приказал: «В лагерь воды не давать». А ведь здесь, на солончаках, жажда бывала особенно сильной: вокруг только соль, соль, соль…
Пыль густым туманом стояла над лагерем. Мутно проступали контуры людей, сидящих в самых разнообразных позах: поджав под себя ноги, скорчившись, раскинув руки.
Мёртвые сидели между живыми…
8. Что значит «Не дрейфь»?
Город бомбили с воздуха и били снарядами с моря. Иногда рушились целые кварталы: дома оседали в несколько мгновений и превращались в щебёнку, в пыль. Жильцы разбомблённых кварталов вселялись в здания, которые пока ещё были целы: уплотнялись дома, квартиры, комнаты. Уплотнилась и мореходка, в которой учился Игорь. Половина классов была отдана под казарму морской пехоте — тем самым «полосатым дьяволам», которых так боялись фашисты.
Как же завидовал Игорь этим чёрным бушлатам! В казарме то и дело гудели колокола громкого боя или заливисто пел горнист: «Тревога!»
Моряки выбегали в полосатых тельняшках, на ходу надевая бушлаты, припечатывая блином бескозырки. С тех пор как появились моряки, всё в мореходке стало по-другому. Здание училища превратилось как бы в корабль. Никто не говорил теперь «помыть пол», а только «драить палубу». Лестница называлась теперь трапом, скамейки — банками.
Читать дальше