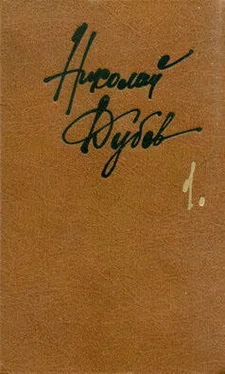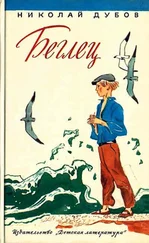Они вышли на берег и легли на крупную гальку, чтобы обсохнуть.
— Ну что ж, дочка, — сказал Шевелев, — давай всё-таки познакомимся поближе… Очень ты на меня обижена?
— Н-нет, — с оттяжкой ответила Люба, — теперь уже нет.
— А раньше обижалась?
— Очень. Потому что не понимала. Как это так — есть отец и нет отца? А потом мама всё рассказала. И я перестала обижаться, потому что поняла: никто не виноват. Разве вы нарочно так сделали?..
— Говори мне «ты».
Люба прикусила губу и, помолчав, сказала:
— Можно, я немножко потом, когда привыкну?.. Нет, теперь я не обижаюсь. Мне только жалко…
— Чего?
— Мы с мамой всё вдвоём и вдвоём… Мне-то ничего, я ведь вас не знала. А мама как посмотрит на ваш портрет, как задумается, так у неё слезы и текут. И мне её тогда ужасно жалко… И себя тоже. Вот у вас сыновья, целых трое. Они же мне братья? А я их совсем не знаю. Это, наверное, хорошо, когда есть братья… Какие они?
Этот вопрос поставил Шевелева в тупик. Он только сейчас отдал себе отчет в том, что не знает, какие они, его сыновья. Ну, с Сергеем более или менее ясно. А Борька, Димка? Он уходил на работу, когда они ещё спали, возвращался, когда они уже спали. Все заботы о них легли на Варю. Даже по выходным, когда он сидел над чертежами дома. Варя не допускала, чтобы они лезли к нему со своими мальчишескими пустяками, мешали работать…
Он рассказал Любе о Сергее, каким самостоятельным, дельным парнем он оказался.
— А Борис и Димка? Обыкновенные ребята. Борис на будущий год кончает школу, а Димка ещё совсем пацан — он ведь на три года моложе тебя… Пошли-ка домой, а то влетит нам от мамы, она небось уже заждалась…
— Да, — сказал Шевелев, увидев заставленный стол, — это не похоже на алуштинскую столовку. Там вышел и не знаю, ел я что-нибудь или только зря челюстями двигал. Если ты будешь так кормить, я отращу себе живот…
— Ешь на здоровье, поправляйся. Вкусно?
— У… — промычал он набитым ртом. — Мало сказать вкусно — вкуснотища! Есть мне приходилось всякое и по-всякому… А знаешь, что за всю жизнь я ел самое вкусное? Холодную вареную картошку, когда ты меня привела к себе в хату, там, на хуторе…
— Тю! — засмеялась Марийка. — Да что в той холодной картошке было вкусного?
— Чтобы понять, надо было побывать в моей шкуре. У меня тогда впервые появилась надежда, что я, может, и выберусь из передряги, в какую попал, может, и уцелею… Так что у твоей картошки был вкус жизни, дорогая моя Марийка, а слаще его ничего не бывает…
Слезы блеснули в глазах у Марийки.
— Ой, я ж сметану забыла, — сказала она и убежала на кухню.
Прикусив губу, Люба во все глаза смотрела на него.
— Смелая у тебя мать, дочка, — сказал Шевелев. — Девчонка была, а ничего не боялась… кроме лягушек. А ведь она жизнью рисковала, спасая меня. Об этом она тебе рассказывала?
— Нет.
— Так вот знай. Такой матерью гордиться надо.
— А я и так, — сказала Люба. — Я её так люблю, что и сказать нельзя…
После ужина Шевелев вышел на площадку перед домом, сел на камень над обрывом. В полотняном пляжном загоне не было ни души. Солнце скрылось за Аю-Даг, зелень на его восточном склоне сгустилась до черноты, но небо и море ещё были залиты светом. Морской бриз уже затих, береговой ещё не поднялся, и море от Аю-Дага до Медвежонка застыло неподвижным жемчужным зеркалом. Только далеко, к горизонту, оно всё ещё поблескивало солнечными зайчиками.
Теплые ладони внезапно закрыли ему глаза.
— Молчи, дочка, — над самым ухом сказала Марийка. — Пускай сам догадается.
— А тут и гадать нечего, — сказал Шевелев. — Люба.
Он отвел ладони дочери от лица, но руки не отпустил и усадил её рядом. Марийка села с другой стороны.
— А как ты узнал? — Люба, улыбаясь, заглянула ему в лицо.
— Проще простого: мама сделала бы это смелее. А ты все ещё стесняешься… До чего же у вас здесь хорошо! Как в раю.
— Правда? — обрадовалась Марийка, будто всю эту красоту она сама приготовила для любимого Михася.
— Настоящий рай. И всего за три рубля… Рай на трешку. Дешевка!
— Почему за трешку?
— А я знаю, — сказала Люба, — билет на катер от Алушты до Фрунзенского стоит три рубля.
— Правильно, дочка.
Шевелев действительно чувствовал всё окружающее и себя самого совершенно иным, чем ещё несколько часов назад. И тут же с ужасом и отвращением к себе понял причину этого: здесь, с Марийкой и Любой, ему было легче и лучше, чем дома…
Вскоре после войны Варя однажды сказала:
— А знаешь, Миша, ты переменился.
Читать дальше