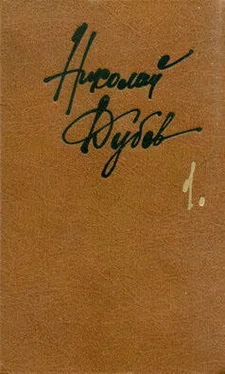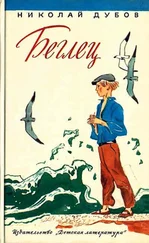Потом появился Устюгов. Он вернулся в Киев ещё в апреле сорок четвертого, начал работать в газете и регулярно наведывался по шевелевскому адресу, который разыскал с неимоверным трудом, так как никакого адресного бюро и справочных ещё не существовало. До войны они друг друга не знали, в июле оказались в одной части, узнав, что земляки, держались вместе. Вместе они были всего два месяца, но иной фронтовой день оказывался весомее многолетней дружбы в обычной жизни. Истекающего кровью, почти бездыханного Устюгова Шевелев дотащил до медсанбата. Клещи окружения ещё не замкнулись, и после перевязки и помощи на скорую руку тяжелораненого Устюгова отправили в глубокий тыл. Немецкая мина так нафаршировала его железом, что ему пришлось перенести несколько операций, к дальнейшей службе он оказался негоден, был демобилизован и осел в Уфе, откуда с одной из первых партий возвращенцев выехал в Киев. Шевелев ни о чём не просил его, но Устюгов сам всё увидел и понял и каждый раз, возвращаясь из командировки, в которые часто отлучался, приходил с тяжелым пузатым портфелем. В нем оказывалась то картошка, то капуста, а то даже творог и сметана. Сначала это было принято как большое одолжение, потом Варя восстала:
— Так нельзя, Матвей Григорьевич! Где вы всё берете? Это же должно стоить кучу денег!
— Вы ошибаетесь, Варенька! Это скромные дары поклонников моего пера, а также авансы жаждущих славы деятелей. Мир мельчает, я тоже. Раньше взятки брали борзыми щенками, я пал до творога и капусты…
— Ты это всерьёз?
— Ох, Михайла, Михайла… Я еще в сорок первом заметил, что с чувством юмора у тебя не шибко… Не беспокойся. Отец Василий среди прочих внушил мне заповедь «не укради». Это произошло ещё в детстве, когда я учился в гимназии, которую не закончил, поелику гимназии были ликвидированы. Ты можешь спать спокойно: я не украл. Взяточничество есть лишь разновидность кражи. Стало быть, отпадает и оно. К тому же, если уж брать взятки, я бы запросил больше. Надеюсь, что я стою дороже, чем портфель или даже мешок картошки… Я просто поступаю сообразно пословице: «За морем телушка — полушка, да рубль перевоз». За морем, то есть в глубинке, где нет никакого транспорта — а его пока нет, — местным жителям некому продавать продукты своего труда, и они рады случаю отдать их по дешевке. Вот если бы они затратили рубль на перевоз, то на Владимирском или Бессарабке они за то же самое сняли бы с тебя штаны. Я за перевоз ничего не плачу, поскольку мою поездку оплачивает редакция и даже платит мне суточные, только, конечно, не за приобретение картошки, а за очередное сочинение на жгучую тему современности. Вот и всё.
— За подмогу спасибо, конечно, Матвей, — сказал Шевелев, выйдя его провожать. — Но ведь, много или мало, ты тратишь свои деньги…
— Слушай, спаситель! — резко обернулся к нему Устюгов. Всегда усмешливое лицо его стало жестким. — Если ты будешь разводить эту муть, я дам тебе в ухо. У него жена похожа на тень, а он корчит из себя гордого испанца… Меня блевать тянет от такого благородства. Прибереги свою гордость для действительной надобности и не сори жалкими словами. Я закоренелый холостяк, а счет в банке открывать не собираюсь. И может быть, ты когда-нибудь что-нибудь слыхал о таком явлении, как дружба? Так вот, оно состоит не только в том, что друг у друга отнимают время болтовней…
Постепенно устрашающая худоба исчезла, лицо Вари перестало напоминать личико девочки-старушки, еле заметными стали скорбные складки в углах губ. Но пережитое оставило не только внешние следы — у Вари обнаружилась сердечная недостаточность.
Между ними никогда не стояла ложь. Им просто нечего и незачем было что-то утаивать друг от друга. И вот теперь появилась непреодолимая стена лжи… Ещё там, на хуторе. Шевелев твёрдо решил рассказать Варе всё. Там и тогда не было выбора, и всё случилось, как случилось. Теперь выбор — лгать или сказать правду — зависел только от него. Варя всё поймет. Ну. а если нет… Что ж, поделом вору и мука. Во всяком случае, он будет честен…
Увидев Варю в Ташкенте, он понял, что сделать этого нельзя. Всё, что обрушилось на Варю, довело её до крайнего предела сил и выносливости. Рассказав о своих хуторских амурах, он попросту убил бы жену. Надо было думать о ней, а не о своих мучениях, спасать её, а не чистоту своей совести, которой уже всё равно чистой не быть. Вот так и оказалось, что и сейчас у него не было выбора, он не мог быть честен, не мог сказать правду, а должен всё утаить и лгать. Во всяком случае, пока… Оказалось, и потом тоже. Куда как благородно — заботливо выходить человека с больным сердцем, чтобы потом со своим деревенским романом влезть в это сердце и окончательно надорвать его…
Читать дальше