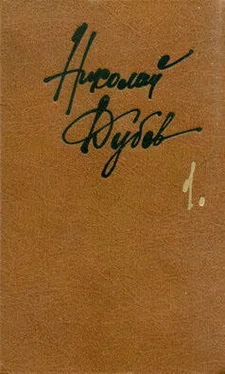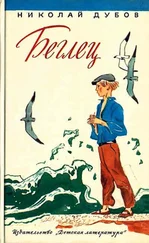— Какой уж я теперь дядечка? — сказал пристыженный Шевелев. — Называй по имени, без всяких дядечек…
Называть Шевелева дядечкой Марийка перестала, но говорить ему «ты» привыкла не скоро.
Только через два года лавина огня, рвущейся стали и смерти прокатилась в обратном направлении. И снова она миновала стоящий на отшибе хуторок. Но как только в селе вместо бежавшего с немцами старосты появился уполномоченный из райцентра и объявил об обязательной явке всех мужчин призывного возраста, Шевелев, не ожидая назначенного дня, ушел. До райцентра было около тридцати километров, на транспорт рассчитывать не приходилось, и он не знал, как скажется переход на раненой ноге, в которой так и остался кусок рваного железа. Марийка показала ему тропу, которая, минуя хутор, выводила на дорогу к селу, откуда к райцентру шел проложенный до войны грейдер. Провожать себя он не позволил, опасаясь за неё — она была на сносях.
Весть о беременности Марийки ударила его, как обухом. Возрастная разница между ними была слишком очевидна, и только злые языки могли судачить о возможной их связи, доказать её было нечем. И вот теперь доказательство появилось, оно будет расти со дня на день, и на хуторе, где жизнь каждого у всех на виду, ничего скрыть не удастся. Его, конечно, осудят. Но мужчин в таких случаях судят не так уж строго, к тому же он солдат, все понимали, что придет время и он неизбежно уйдет отсюда. Вся тяжесть осуждения и даже злоба отчуждения обрушатся на молоденькую девчушку, которая стала полюбовницей чужого, старого человека и прижила с ним ребенка. В таких случаях сельское общественное мнение беспощадно. И тут Марийка снова удивила его. Она не только не испугалась, не встревожилась, а обрадовалась случившемуся и легкомысленно, как ему казалось, отмахивалась, когда Шевелев говорил о будущем и о том, как трудно ей придется. Оказалось, что это не легкомыслие, а твердая, обдуманная позиция.
— Плевать я хотела на бабские пересуды, пускай брешут, шо хочут. Дытына — то ж счастье, когда она от любви. И то ж твоя дытына, Михасю. Вот ты уедешь, а она останется. Значит, и ты всегда будешь со мной.
При расставании Марийка не рыдала, не причитала. Она исцеловала ему всё лицо, а потом, кусая нижнюю губу, только смотрела и смотрела на него. Слезы текли у неё по щекам, они мешали смотреть, она нетерпеливо смахивала их ладонями и снова смотрела, смотрела, пока он не скрылся из виду…
Без малого ещё два года Шевелев воевал, трижды попадал в госпиталь и снова возвращался в строй. Чего только за это время не наслушался и не насмотрелся. И сколько раз довелось ему слышать то бесшабашный, а то и просто бесстыжий припев всякого рода негодяйству — «война все спишет»! Шевелев не вступал в споры, но знал — с совести ничего не может списать даже война.
Увидев Варю, Шевелев почувствовал почти физическую боль. Его руки сошлись за её спиной, будто он обнял что-то почти несуществующее и невесомое, настолько она была худа. У неё было изможденное лицо девочки-старушки со скорбными складками у губ. Она и весила, как подросток, — всего сорок четыре килограмма. Шевелев чувствовал не только боль, но и жгучий стыд. Он не был в том виноват, но виноват не виноват, а всё равно, когда Варя с детьми первых два года самой тяжкой разрухи, неустройства и нищеты голодала и работала на износ, он был сыт, одет и, в сущности, бездельничал: не мог же он считать тяжелой работой возню в убогом Марийкином хозяйстве. А потом? Да, во время боя каждую секунду его могли убить, но он всегда был сыт и одет. Случалось всякое, бывало и очень тяжко, но ведь он был здоровым мужчиной в расцвете сил, а она, и прежде хрупкая, тщедушная женщина, работала сверх всяких норм, голодала изо дня в день, отрывая от скудного пайка лишний кусок для детей, и уже почти стала дистрофиком. Не раз после войны доводилось ему слышать, как хваставшие своими воинскими доблестями трепачи с презрением говорили о тех, кто «воевал в Ташкенте». Дураку и подлецу ничего доказать нельзя, а послать его в Ташкент военного времени на голодный паек, бездомную жизнь и непосильную работу, чтобы на своей шкуре узнал радости ташкентского рая, было уже невозможно…
Сережа и Борька быстро вошли в норму, но Варя медленно и с трудом возвращалась к своему прежнему облику и состоянию. Шевелев соглашался на любые сверхурочные, не чурался никакой работы на стороне, лишь бы прибавить несколько десятков рублей к своим семистам. Пройдя специальную комиссию при поликлинике, он, как язвенник, получил УДП — «усиленный дополнительный паек». Злые языки тут же расшифровали эту аббревиатуру по-своему — «умрешь днем позже». Для злословия были основания, так как весь «усиленный дополнительный» состоял в том, что в диетической столовой раз в день выдавали крохотный ошметок омлета из яичного порошка или котлетку из манной каши, политую буроватым киселем совершенно неопределимого вкуса. Шевелев приносил УДП домой и надеялся, что съедать его будет Варя, но его тотчас заглатывал Борька.
Читать дальше