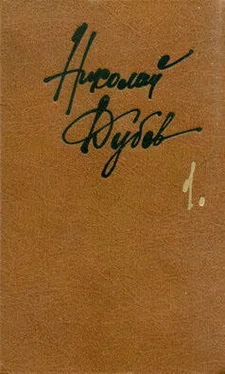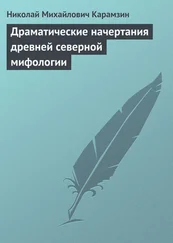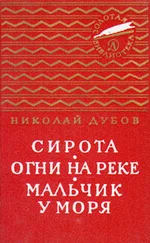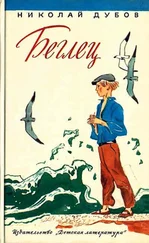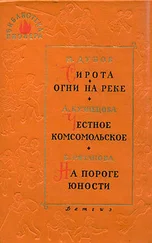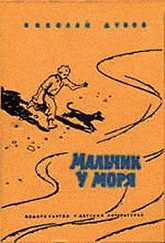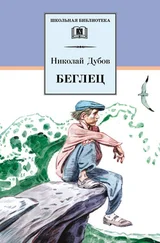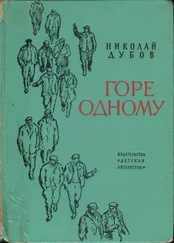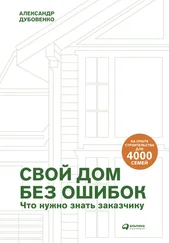— Так всех и отпустили? — недоверчиво спросил Шевелев.
— Ну, где там всех! А сколько-то отпустили. Тогда и Галька тоже решила. Она молодица смелая, ничего не боится. Чего уж она начальнику брехала, не знаю, только выпустили того, на кого она показала… Вот Галька и привезла его. Сам бы он десять раз по дороге помер — такой худющий. Одни глаза да кости. Галька говорит: ничего, откормлю. А ещё Галька говорила, что из нашего села ещё одна тетечка тоже выпросила себе пленного и привезла его в село. И староста про то знает, и никто им ничего не говорит и не делает. Значит, можно пленным у людей жить, если их даже из лагеря отпускают. Значит, и вам, дядечка Михайло, можно больше не прятаться… А что? Почему Гальке можно, а мне нельзя? Тому дядьке можно, а вам нет? Вот давайте набрешем, что вы мой двоюродный дядька. У мамы десь за Бахмачем жил двоюродный брат, учителем был в каком-то селе. Тут он сроду не был, бо мамо же не отсюда родом, а из Выровки. А он как поехал учиться, так потом и дома не бывал. А когда началась война…
— Нет, Марийка, лучше не брехать — в брехне легко запутаться. Давай уж как было на самом деле: я приполз раненый, ты помогла, выходила меня, вот и всё. Ты только не спеши рассказывать про меня — посмотрим, как с теми будет…
С теми обошлось — ни бывших пленных, ни приютивших их хозяек никто не преследовал, и Шевелев перестал прятаться. Оказалось, соседи давно уже знали, что Марийка прячет раненого, только молчали об этом. А теперь произошли «смотрины». Под пустяковым предлогом пришла соседка, похвалила Шевелева за то, что он помогает бедной дивчине, которая осталась одна и никакой мужской работы делать не умеет, спросила, откуда он и не встречал ли её мужа, всплакнула о нём, потому что даже неизвестно, живой ли он, а если живой, может, вот так же где-то попал в плен и тоже бедует… С лишними вопросами она в душу не лезла и скоро ушла. Без всяких предлогов прибегали Марийкины подружки. Они вежливо здоровались, но в разговор не вступали, шушукались с Марийкой, а на него только зыркали с жадным любопытством.
— Ну, как на хуторе отнеслись к тому, что ты меня прятала? — спросил Шевелев.
— А хорошо отнеслись, — ответила Марийка. — Говорят, правильно сделала, не дала пропасть человеку. Все люди хвалят, — не без гордости добавила она. — Вот только Кононенчиха-та…
— А что Кононенчиха?
— А плетет, бесстыжие её очи… «Надо было, говорит, как я. Вон какого казака выбрала — и молодой, и здоровый. Откормлю, будет як коняка. А ты какого-то старика подобрала, да ещё и хромого…» Дура она, хоть и двое детей уже имеет…
— Так ведь правильно, Марийка, — улыбнулся Шевелев. — Так оно и есть — и хромой, и старый, толку от меня мало.
— Тю на вас, дядечка Михаиле! Да шо я, выгоды какой искала? Я думала, как помочь, когда вы были такой бедный, шо и ходить не могли… И то брехня — не такой уж вы и старый!
Теперь, уже не таясь, Шевелев стал, насколько умел, приводить в порядок Марийкино хозяйство, а узнав, что у соседки дверь коровника плохо закрывается, а корове скоро телиться и Настя боится, что теленок замерзнет, пошел туда и, провозившись почти целый день, подогнал перекошенную, провисшую дверь. В благодарность Настя протянула ему кусок сала, завернутый в тряпочку.
— Извиняйте, больше у меня ничего нет.
— Я не ради этого приходил, — сказал Шевелев. — Я солдат, а вы жена солдата. У вас вон двое пацанов, как у меня. Что же я, у детей кусок отнимать буду?
Вместо ответа Настя расплакалась.
Повалили снега, у Шевелева прибавилось забот — разгребать сугробы, прокладывать дорожки. Он был бы рад работать тяжелее и дольше, но вся работа кончалась засветло, дни же становились всё короче, а вечера длиннее и мучительнее. Мучительнее всего была неизвестность.
Вот только здесь и теперь Шевелев понял, как много значило то, чему прежде он не придавал значения, о чем даже не задумывался. Никогда он не усаживался с намерением слушать радио, слушал его только на ходу, между делом, не читал газеты от доски до доски, не собирал, не выспрашивал никаких новостей, но изо дня в день, с утра до ночи они наплывали на него со всех сторон. Он знал, что происходит в мире, в стране, в городе, в институте, в кругу его близких и друзей. Не отдавая себе в том отчета, он не только знал, но и был как бы всему сопричастен. Пусть практически сопричастность эта не выходила за пределы узкого круга сослуживцев, друзей и знакомых — она была несомненной и необходимой, создавала полноту жизни, без которой существование было немыслимо.
Читать дальше