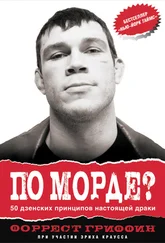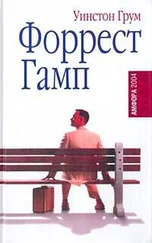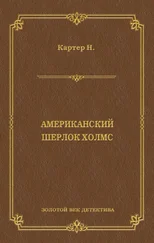Мне нравился мистер Дженкинс. Он был высокий и толстый и носил фартук. У него была длинная, почти до пояса, белая борода, но на голове, можно сказать, волос практически не было, и макушка ее блестела, как начищенная дверная ручка.
В магазине у него было много всякой всячины: высокие стеллажи с рубашками и разной другой одеждой, ящики с обувью; на полу стояли бочки с печеньем, на прилавке лежал большой круг сыра, а еще там же, на прилавке, был стеклянный шкафчик с конфетами на полочках. Конфеты были самых разных сортов и видов, и было их так много, что, казалось, никогда в жизни ему не удастся их все распродать. Я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь ел эти конфеты, но, надо полагать, сколько-нибудь он все же продавал, потому что иначе он не стал бы держать их в магазине.
Каждый раз, когда мы доставляли продукт, мистер Дженкинс спрашивал меня, не смогу ли я сходить в дровяной сарай и принести дров для большой печи, которая была в магазине. Я всегда соглашался. В первый раз он предложил мне большой полосатый леденец, но я не мог с чистой совестью принять его за такие пустяки как принести дров, что мне было ни капли не трудно. Он положил леденец обратно в шкафчик и отыскал другой, старый, который как раз собирался выбросить за негодностью. Дедушка мне сказал, что раз мистер Дженкинс все равно собирается выбросить старый леденец, ясно, что от этого леденца никому не будет проку, и, стало быть, правильнее всего его взять. Я так и сделал.
Каждый месяц отыскивался очередной старый леденец, и, надо полагать, я практически избавил мистера Дженкинса от старых леденцов, загромождавших его магазин. Что, как мистер Дженкинс всегда говорил, очень его выручало.
Как раз в магазине на перекрестке у меня выудили пятьдесят центов. Эти пятьдесят центов скапливались долго: раз в месяц, когда мы доставляли продукт, бабушка откладывала для меня никель или дайм [9] Монета достоинством в десять центов.
.
Это была моя доля прибыли в ремесле. Мне нравилось брать с собой и носить в кармане мои сбережения — горстку никелей и даймов, — когда мы ходили в магазин на перекрестке. Я никогда их не тратил, и всякий раз, как мы возвращались домой, высыпал все свои никели и даймы обратно во фруктовый кувшин.
Мне было приятно приносить их в магазин на перекрестке; меня тешило само сознание, что они у меня есть. С некоторых пор я заприметил в конфетном шкафу большую, красную с зеленым коробку. Я не знал, сколько она стоит, но рассчитывал, что, может быть, к следующему Рождеству куплю ее бабушке… и потом мы вместе ее откроем и съедим, что найдется внутри. Но, как я уже говорил, прежде чем это случилось, мои пятьдесят центов уплыли.
Время было обеденное, и мы только-только доставили продукт. Солнце стояло прямо над головой, и мы с дедушкой отдыхали, сидя на корточках под навесом магазина, прислонившись спинами к стене. Дедушка купил для бабушки немного сахара и три апельсина, которые нашлись у мистера Дженкинса. Бабушка любила апельсины, и я тоже — когда можно было их раздобыть. Я видел, что у дедушки их три, и знал, что один достанется мне.
Я сосал леденец. К магазину по двое, по трое стали сходиться люди. Говорили, что сейчас приедет политик и скажет речь. Едва ли дедушка стал бы специально дожидаться политика, потому что, как я уже говорил, ему не было до политиков ни капли дела, но, так или иначе, пока мы отдыхали, политик явился.
Он приехал в большой машине, взметавшей на дороге огромнейшие клубы пыли, которые все увидели задолго до ее появления. Он посадил кого-то вести за него машину, так что вышел он через заднюю дверь. Там же, на заднем сиденье, с ним была еще леди. Все время, пока политик говорил, она бросала на дорогу маленькие сигареты, выкуренные только наполовину. Дедушка сказал, что это уже скрученные, готовые сигареты, которые курят богатые люди, которым лень скручивать сигареты самим.
Политик обошел всех по кругу и всем пожал руки; нам с дедушкой, однако, не пожал. Дедушка пояснил, что по нашему виду ясно, что мы индейцы, а индейцы все равно не голосуют, так что от нас политику нет, можно сказать, практически никакого толку. Что вполне разумно.
На политике были черный сюртук и белая рубашка, а вокруг шеи была повязана черная лента, одним концом свисающая на рубашку. Он много смеялся и вид имел довольно радостный. То есть, это до тех пор, пока не рассердился.
Он взобрался на ящик и стал сокрушаться по поводу условий в городе Вашингтоне… который, сказал он, катится ко всем чертям в преисподнюю, и других слов у него нет. Он сказал, что город Вашингтон — сущие Содом и Гоморра. Что, надо полагать, было верно. Он сердился и огорчался все сильнее, так что развязал даже ленту на шее.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу