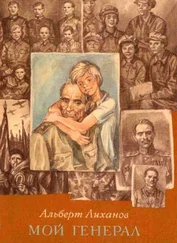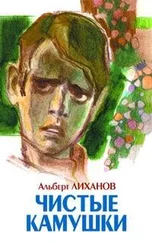— В Африке? — неожиданно восхитился чумной мужик. — Сам поймал? Ну, ты даешь!
— Это не я даю, — удалось мне не растеряться. — А он дает!
— Дает, — призадумался придурок. Значит, не такой уж придурок. — А чё молчал? Чё глазками бегал?
И все дальше погружаясь в какие-то свои соображения, пробормотал:
— Надоть, Африка! Где таперича Африка?
Не для одного меня Африка была волшебным паролем.
Дома я во всех подробностях рассказал про доктора.
Мама еще не пришла с работы, а бабушка выслушала меня, не перебивая, и сразу засобиралась.
— Ты пока готовь уроки, — велела, — а я скоро вернусь.
Но вернулась совсем нескоро. Уже и мама из госпиталя прибежала — она всегда, возвращалась с работы быстрым шагом, порой переходящим в бег: все про меня беспокоилась, торопилась, все боялась за меня, особенно зимой, как бы я не угорел, закрыв заслонку раньше, чем отпылают синим пламенем последние в печи угольки.
Уже стемнело, как бабушка явилась слегка розовая, то ли от морозца, то ли от волнения, и с порога объявила:
— Вернулась из разведки! — и, велев сперва мне опять пересказать мои рыночные похождения, продолжила: — Нехорошо это, человек нам помог, я же не забыла Николкины терзания, надо разузнать, думаю, что с доктором творится?
И вот она разведала, что семью доктора, хоть он и в частном доме, уплотнили, поселили к ним эвакуированных из Киева, так что хозяева переместились на второй этаж, домработницу отпустили в деревню, частных приемов больше не было, людям, наверное, платить нечем, а поскольку дом большой и в нем четыре печки, по две на каждом этаже, доктор валит забор вокруг своего участка, сам пилит и колет доски и бревнышки, сам же и топит две печи наверху, а две топят приезжие, им-то привозят дрова от власти — не дрова, а бревна, и, хоть доктор ведет себя смирно, из-за дров этих все-таки то и дело вспыхивают ссоры, потому что эвакуированные потаскивают у него сухие доски на растопку — ведь привозят-то сырые бревна, летом выловленные из реки.
Бабушка в деталях и лицах рассказывала, как она втиралась в доверие к бедным киевлянкам, оказавшимся у разбитого корыта, — но это только так говорится: никакого, даже разбитого корыта у них не было, ни кастрюль никаких, никаких кружек-ложек, собрали только одежды побольше, неизвестно им было, куда повезут и когда еще вернутся.
Впрочем, за почти целый год, как они теснили Николая Евлампиевича, кружками и ложками беженки уже обзавелись, кастрюлями тоже, но вот пилу и топоры у доктора берут в долг. Хотя и топить-то не умеют! Жили в домах с паровым отоплением — никаких забот.
Далее бабушка излагала, как она увещевала приезжих. Было их четверо, все пожилые, одна курящая, в очках, говорит, что служила важным секретарем. Сначала бабушка их утешала, желала им поскорее вернуться по домам, в славный и теплый их город. Потом плавно перевела беседу на Николая Евлампиевича, его городской, как ухогорлоноса, авторитет, подчеркивая, что он же не противился, когда власть решила его уплотнить, поселить сюда беженцев — «Ведь не противился?» — «Да что вы!» — «Вот видите?» — и надо относиться к нему с глубоким почтением. «Не правда ли?» Все дружно кивали ей. «Вот вам дрова, хоть и сырые, привозят, а ему — нет, разве справедливо?» И с этим эвакуированные соглашались. И спрашивали ее: «А вы откуда? Из исполкома?» «Я, — не растерялась бабушка, — представитель общественности!» И все успокоились сразу. Ишь ведь какое словечко выискала гордое 1
Они, кажется, даже обрадовались, что бабушка от общественности, а не от исполкома. Понизив голос, стали просить ее повлиять на доктора, чтобы он куда-нибудь продал рояль. «Пройдите, — сказали ей, — в этот зал, — и она проходила, — смотрите, сколько места он занимает, — и она смотрела. — Послушайте, — просили ее, — неудобно, в чужом доме и приходится ставить на рояль книги, сумки, а то и кастрюли. Мы же подстилаем под них газеты, — удивлялись беженки, — а Николай Евлампиевич заходит и обижается».
Они, как выяснилось, предлагали ему поднять рояль на второй этаж, хотя понимали, что сделать это невозможно, нет таких мужских сил, а потому, на их взгляд, лучше бы инструмент продать. Но Николай Евлампиевич и слышать не желал.
Бабушка размышляла практично:
— Да кому продашь-то? Война идет! Кто купит рояль!
— Пусть не боится, — отвечали ей. — Кончится война, приобретет новый! Выживать-то надо! А тут — видите — нам негде разместиться!
Курящая говорила громче всех. Странно, конечно, решать за другого человека — продать или не продать его вещь. Да и какую! Вещищу! Беженки, говорила бабушка, наступали на нее, даже горячились. «Вы же от общественности!» — шумели. «Не очень церемонились эти дамочки», — заметила она.
Читать дальше