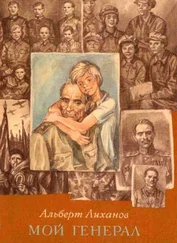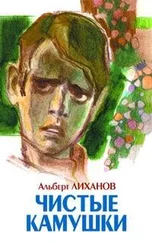Были такие бумаги и у мамы моей, и у Николая Евлампиевича, разумеется. Только у нас с бабушкой не было, как у всех детей и стариков.
Кончилась война — для многих бедой, а для кого и радостью. Вернулся из Манчжурии мой папка и, отдохнув пару недель, пошел на работу. Даже месяца не отгулял. Привез трофеи. Брезентовые сапожки мне, десятилетке, а еще фанерный серый чемоданчик, с которым я через семь лет уехал поступать в университет, и маме отрез на платье — белый китайский крепдешин с тонкими восточными цветочками, явно девичий, из которого — через целых тринадцать лет! — сошьют скромное свадебное платьице для моей жены.
Но ничего этого еще никто не видел из тогдашних счастливых дней после победы, а я в брезентовых сапожках щеголял, вызывая мальчишечью зависть, но главной завистью — а моим счастьем — был отец. Дважды раненный, всю войну оттрубивший, но живой.
И счастье это все затмило — разве трудно понять?
Только бабушка вспыхивала иногда:
— Ой, как же я! Надо к доктору зайти!
И не заходила. То одно, то другое. А, главное, бесконечные рассказы отца — как его контузило первый раз, как ранило во второй, как их перекинули на строительство железной дороги под Котласом, обратно на фронт, уже в Румынию, а потом перевозили в Манчжурию.
— Под Котласом? — насторожилась бабушка и спросила зачем-то шёпотом: — А лагеря для заключенных там были?
— Почему были, — не удивился отец, — они и есть. Немало там всякой швали из западных земель. С Украины, из Прибалтики. Из тех, кто отличился в плену.
На отцовских губах шевелилась презрительная улыбка, похоже, он что-то такое особенное знал про эти лагеря и про людей, которых туда привезли.
Ему бы тут остановиться, сдержать себя, промолчать, но он выпил под пельмешки, сидел в расстегнутой гимнастерке, хоть уже и без погон, широкий ремень со звездой висел на спинке кровати, мама с бабушкой глядели на него, подперев кулаками щеки, и мой папа сказал:
— Однажды нас подняли по тревоге. Ну, что мы — железнодорожные войска! Кладем рельсы! Даже и оружия-то нет. Какие-то карабины, да винтовочки довоенные. Но встали ночью вдоль полотна — массовый побег. Команда — стрелять без предупреждения. Одна сволочь в лагере, бендеровцы, отпетая публика. Осуждены на двадцать пять.
Он выпил рюмку, поморщился, заел пельменем, приветливо мне улыбнулся.
Ну, стою, Вдруг хрустит валежник. Кто-то бежит, да прямо на меня. Я выстрелил — он с копыт!
Припомнив, наверное, как это было, отец снова плеснул себе. Еще выпил. Я спросил, ужасаясь:
— Убил?
Что-то такое отец услышал в моем вопросе. В отчаянном, наверное, моем восклицании. Медленно поставил рюмку. Поглядел мне в глаза, подумал. И ответил бодро:
— Ранил. Он заверещал, как заяц, тут же подбежали чекисты, унесли. Ранил.
Я вздохнул с облегчением. Не хотелось мне, чтобы отец убивал, хотя бы и заключенного.
И вот в те дни пришли два известия.
Сначала — удивительное. Отец явился откуда-то с газетой и кинул ее на стол.
— Почитайте, — сказал весело, — сообщение Сбербанка. Какой-то наш житель выиграл по Госзайму аж двадцать пять тысяч рублей! Счастливчик! Нам бы такое подвалило! Уж мы бы!
Взрослые, как дети, стали перебирать, что бы они накупили на такие деньжищи, но фантазия их, по моим соображениям, была слабосильна и дальше маминых обнов, папиных костюмов, которые мама продала в войну и всегда от этого страдала, бабушкиных запасов съестного на много дней вперед — не двигалась.
Единственно, кого отец мысленно не обделил радостью, был я.
— Николке, — щедро отвалил он в мечтах, — купим велосипед!
Ах, как я хотел велик! В войну, вроде, они были даже на строгом учете, ведь, оказывается, у немцев существовали велосипедные войска, значит, и нам надо было учитывать двухколесное средство передвижения. Но после войны ограничения сняли и многие, кто возвращался, везли в подарок своим детям велосипеды, не знаю, может, из тех, на которых ехали фрицы нас завоевывать, — но в городе великов сразу прибавилось, да и в комиссионке они стояли свободно — целое стойло никелированных, рогатых колесных зверей.
Пошутили недолго, светлые мечты рассеялись при первой же какой-то заботе, и все с такой же легкостью, с какой она явилась, забыли о чьей-то божественной удаче.
Но тут в дверь постучали, и мы оторопели.
На пороге стоял Николай Евлампиевич. Он был явно не в себе, глаза бегали, от предложения переступить порог решительно отказался и вызвал бабушку.
Читать дальше