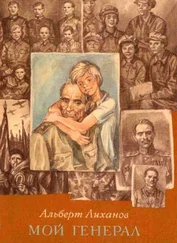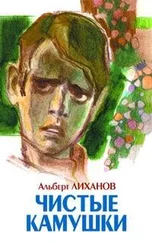Еще она говорила, что хотела бы познакомиться с бабушкой, а если та зайдет в больницу, когда пианистке полегчает и она встанет с постели, то хотела бы поблагодарить бабушку лично.
Еще Елена Павловна корила мужа за то, что он ничем не одарил бабушку, хоть чем-нибудь, пусть бы на праздник, на что моя хлопотуша больше всего огорчалась и внимания на этом моменте не заостряла, а отвечала, то ли отшучиваясь, то ли всерьез:
— Вот выйдет супружница ваша из заточения своего и подарит мне самое главное. Музыку. Ноктюрн Шопена.
Я удивлялся, откуда моя бабуля про ноктюрн да еще Шопена слышала, почти уверен был, что она это просто так говорила, чтобы снова передать что-нибудь Елене Павловне, а доктор верил ей:
— О, ноктюрн! Шопена! — И опускал голову. — Как давно это было!
— А вы сами-то, — спросила его однажды бабушка, — играть умеете?
Он утвердительно тряхнул головой.
— Так чего же никогда не сыграете? — удивилась бабушка. — Неудобно? Так мы сейчас этих жиличек попросим помещеньице освободить!
— Я просто не смею, — ответил ей Николай Евлампиевич. — Рояль откроет только Елена.
Лето, даже самое военное, загребает людей и детей в солнечные объятья. Прижимает к теплу, к цветам, к песчаным отмелям и купанью. Занятия кончились, и меня отправили в лагерь, а там нашему отряду досталась шустрая вожатая по имени Капитолина, которая в первый же вечер провела бойкий среди нас опрос: кто что любит.
Сдуру я сказал, что люблю бабочек. Объяснил, где и при каких обстоятельствах их видел. Пофантазировал на тему Африки, впрочем, тут и фантазировать не очень-то надо: всякий человек знает про Айболита, Лимпопо и может ведь сообразить, что в африканских джунглях живут огромные, со взрослую ладонь, цветные красавицы.
Капитолина в ответ на мои признания промолчала, лишь только покивав, но через пару дней принесла довоенный еще журнал «Юный натуралист», где рассказывалось про морилку для бабочек и был нарисован даже несложный чертеж рамки, в которой уснувшей бабочке распрямляют крылья и протыкают тело булавкой. Еще там объяснялись всякие детали и указывалось, что бабочки просто так не засыпают — им нужен эфир.
— Про это, — задумчиво рассуждала Капитолина, — не беспокойся, эфир для научных целей я раздобуду. А ты сконструируй морилку.
Весть о том, что в средней группе есть парнишка, секущий в энтомологии, науке о бабочках, что было стыдным преувеличением, надолго испортила мне всю жизнь. Во-первых, народ моего возраста стал держать со мной какую-то уважительную дистанцию, зачем-то создавая необоснованные мифы. Что у меня, дескать, не то отец, не то дедушка профессор по бабочкам и заведует специальным музеем, куда пускают только по знакомству. Во-вторых, слух об эфире, веществе для детей недоступном, с которым якобы я запросто управляюсь, — а ведь эфиром, и это хорошо известно, усыпляют не только бабочек или там собак, но и раненых бойцов перед операцией, — вообще поднимало меня на какую-то взрослую высоту.
Но я ведь ничего не умел! Ничегошеньки! И меня ждал позор! Хотя весь грех мой был только в том, что я просто вслух сказал, будто люблю бабочек и мечтаю хоть одну засушить по всем правилам науки.
Все остальное — человеческая молва. А молва имеет страшное, даже беспощадное свойство. Из-за какого-нибудь неправильно сказанного слова, предположения, вопроса и даже вслух произнесенной мечты молва может человека растоптать. А может возвысить. И может возвысить, чтобы потом растоптать.
Однако Капитолине требовался не столько я, сколько моя мечта. Пионерские линейки по утрам и вечерам, сбор колосков в подмогу соседскому колхозу или нолевой ромашки для госпитальных нужд — все это было делом полезным, но обычным и даже поднадоевшим. А хотелось чего-нибудь необычно прекрасного!
И энергичная Капитолина отправилась в город за эфиром и тонкими булавками, а я принялся перечитывать советы «Юного натуралиста» и рассматривать рамочки, начерченные гам.
В лагере была, между тем, еще одна симпатичная личность — заместитель начальника Олег. Всегда ходил в выцветшей пилотке без звездочки, румянец в обе щеки, белобрысые брови и ресницы, голубущие глаза со зрачками в черничину и вечной на устах улыбкой. Где-то чему-то он доучивался и через год собирался на войну, а пока что улыбался во все свои красивые и целехонькие тридцать два зуба нашему гомонливому братству.
Соединенный, видать, с Капитолиной единой идеей о честной службе в любом месте, куда пошлет Родина, он относился к нам со странной смесью превосходства и равенства, веры и недоверия, желания помочь и тут же всем выдать по первое число.
Читать дальше